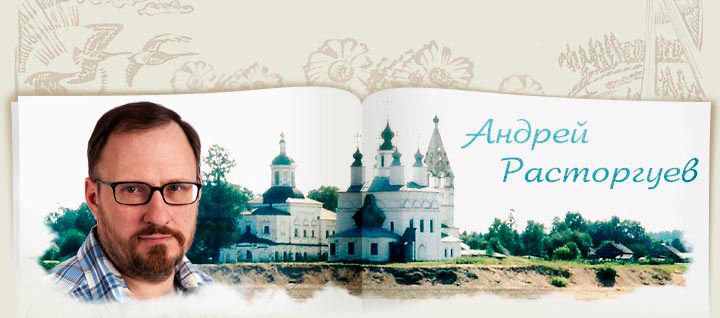
Успение Стефана Пермского |
 ассвет 26 апреля 1396 года ассвет 26 апреля 1396 годаМосковский Кремник, келья Спасского монастыря П е р в ы й ч е р н е ц: - Пронзительный полуночник ослаб, студя густое варево тумана, и мягкое дыхание зари к полудню ливень теплый обещает… В т о р о й ч е р н е ц: - И то – пора. Уж завтра Симеон: святое время взяться за чапиги и, в землю упирая лемеха, взорать сохой заждавшуюся пашню… П е р в ы й ч е р н е ц: - И, в чистые рубахи облачась, пойдут босые смерды бороздами, и потечет янтарное зерно с ладоней теплых в жаждущее лоно… В т о р о й ч е р н е ц: - По-за ордынским и литовским коном какой бы ни сбирался суховей, секиру навостри, но рожь отсей. Глотнешь ли сталь с погибельным поклоном, пойдешь ли вдаль, униженный полоном – созревший хлеб насытит сыновей. Они подымут сетева отцов, и снова оживет земное чрево… Благослови, о, Господи, творцов извечного весеннего посева! П е р в ы й ч е р н е ц: - Что преподобный ныне? В т о р о й ч е р н е ц: - Напролет вчерашний день бояре и монахи шли за благословением к нему. И сам великий князь Василий Дмитрич, поворотя с дороги на Смоленск, лицо и душу, стянутые стужей и тяжкою властительною нужей, согреть успел теплом его руки и сердца, где для ищущих основы он находил спасительное слово изнеможенью плоти вопреки. И с каждым утешеньем тяжелело болезнью отягчаемое тело, натягивая жизненную прядь. И становился тихий голос тише, и он уже взирал как будто свыше, когда его пришли соборовать. Сгустился вечер на заречной шири. Я задремал над песнями Псалтири. Кадильницы струили сладкий дух… П е р в ы й ч е р н е ц: - Томительны молитвенные бденья… В т о р о й ч е р н е ц: - Внезапно – звук тяжелого паденья, и на ресницы – невесомый пух. Глаза открыл: задутая лампада, по келии черемуховый цвет, и сквозь окно раскрытое из сада стекают холод и прозрачный свет – молчит великокняжая столица, лишь ветер да сторожи переклик. И рядом в темноте на половицах из клобука – перекошённый лик. Он оговорит, но голос неразборчив. Он говорит, но разума в том нет. Несомые неведомою порчей, ночь напролет – беспамятство и бред… П е р в ы й ч е р н е ц: - Возможно ли остаться непорочным приявшему владетельный венец? В т о р о й ч е р н е ц: - И сном, как милосердие, непрочным под утро он забылся наконец. Прерывисто нелегкое дыханье великого святители перми… П е р в ы й ч е р н е ц: - Всемилостивый Боже, покаянье и душу беспокойную прими! С т е ф а н: - Испущенными солнцем остриями туманный студень взрезан и пронзен. Прекраснейшее вижу из времен, переходя в неведомое пламя. Смертельный выдох Войпеля утих, ослабли дуновения геенны… Что сей монах проведал о моих деяниях и мыслях сокровенных? Воистину: властитель окаян, людское почитание – полуда, и тяготы княжения для люда – глубокий непросветный океан. Но пусть удел властителя увечит, кроит и гнет, лишь этот люд его увековечит иль проклянет. Благую славу он себе пророчит иль долгий стыд, лишь этот люд навеки опорочит или простит. У памяти свои приемы, свой ад и рай… Но солнце из-за окоёма выводит край. Ужели мой сопутник бледный умчался прочь? П а м: - Сдается мне, что не бесследно минула ночь. Перед лицом клыкастой смерти – не соложи – в ходу совсем иные сметы и рубежи… Стефан: - У раскрывающейся двери мне не к лицу сводить прибытки и потери равно купцу. Судья верховный не сменился моей судьбе… П а м: - Но вижу я, ты усомнился в Его Суде и со тревогою во взоре, морщины – рвы, ты говоришь о приговоре людской молвы… С т е ф а н: - Привыкши попусту мерекать, гляди сюда! Коль совесть есть у имярека, в нем – три суда. Им уличеньем каждый волос и пыль с одежд. И первый суд – народный голос… П а м: - Молва невежд! С т е ф а н: - Да, этим судьям не с иконы пришло сойти. У них особые законы, свои пути. Здесь доли блага и соблазна, костры и льна не перетряхивают разно и дополна. И можно, полнясь чернотою, белей холста одной высокою чертою войти в уста. Людоугодная наличень навек твоя, когда тобою возвеличен сам судия… Дела недавнего покова хотя возьми: полки на поле Куликовом легли костьми. Победе в небывалой сшибке честь и хвала! Но не возместьем ли ошибки она была? И те кровавые потоки, что пролиты, не поминаньем ли жестоким от Калиты? Когда взамен переговоров сверкает сталь, расплата за спесивый норов не высока ль? И, словно отрезвленье свыше – отместка зла: нежданный натиск Тохтамыша – Москва дотла. Но, чистясь от кровавой грязи и злой тоски, народ воительного князя назвал – Донским… П а м: - То ведаю: когда их губишь, ты им кумир. Так почему же ты голубишь весь этот мир, почто, коль достигаешь зреньем глубинных ниш, его с медлительным презреньем не отстранишь? Коль человеческую память скрепляет кровь, не поуменьшилась, Степане, твоя любовь? С т е ф а н: - Во озлоблении отвергнуть как я могу те зеленеющие вербы на берегу, земли предутреннюю дрему, что столь сладка, где облачение черемух – как облака, где все, как солнышко разбрызнет свой пересверк, живет рожденьем новой жизни, берущей верх?! П а м: - Где Эжва медленно катится, и я любил послушать перелетной птицы плесканье крыл, смотреть, как на заречной плеши встают стога, когда о дерево очешет олень рога. Но видя устья и истоки, всемирный быт, уведал я, каким жестоким он может быть… С т е ф а н: - И столь же грубы и убоги – слега да жердь – тобой излюбленные боги, что алчут жертв. Окровавлённые владыки, туга и тлен, и души скованы и дики… П а м: - А что взамен? Явясь с нежданностию рыси как добродей, чем просветил ты и возвысил моих людей? Не скоро ль души их увянут, и в эти дни какой молитвою помянут тебя они? С т е ф а н: - Едва дотронулся до сути лесной народ. Кого в наставники и судьи он изберет, таков и путь: среди народов во свет зари иль вновь – изваянных уродов на алтари. И сатана напустит морок, смутится явь… Молю, о, Господи: будь зорок и не оставь людей, что высмотрели в дыме святую згу – людей, что нынче и моими назвать могу! П а м: - Не ты один! Меж именами, убогих, нас во полном титле поминает московский князь… С т е ф а н: - Соединяются народа во окоём, когда встречаются, как воды, в пути своем, и, породнясь в единой вере, находят ключ к широкой двери в единый дом… Семнадцать лет, а надо тыщи. Дух – не трава. Ростки пробились на огнище едва-едва. Издали первые созвуки, свой благовест новорожденные «аз-буки» неся окрест, чтоб окрещенные постигли слова веков, переплавляемые в тиглях всех языков – слова, что вопреки завету, где кровь за кровь огня прибавили рассвету: «Бог есть любовь!» И даже бегшие упрямо очей Христа сказать могли, взглянув на храмы: «…и красота!» Пам: - Высокомерие умерь ты: «Бог есть любовь…» Перед собачьей мордой смерти не кривословь. Лихой толмач небесных правил, ответ яви: всегда ли сам себя ты правил по той любви? Всегда ли с кротостию сердца по доброте ты укорял единоверца в неправоте? С т е ф а н: - Кому вовек подвластен будет людской содом, тот все увидит и рассудит своим Судом. Его ни тяжбою, ни битвой не умалить – лишь неустанною молитвой прередолить, когда, какого ни возлюбят – раб или князь, его отмаливают люди, соединясь. И станет вескою защитой на Божий взор и даже может быть засчитан их приговор, но взора этого, доколе душа молчит, людской не ощущая боли, не умягчить… П а м: - Все то ж виляние улитки, слизь чешуи. Ты снова ускользаешь прытко из ячеи. Но вся цена увертке ловкой – ущербный грош. Там в стороне, за поволокой – не узнаешь? Земные завершая сроки, приди в испуг, воспомнив бисерные строки знакомых букв… С т е ф а н (читает): - И явился ему Господь у дубравы Мамре, когда он сидел при входе в шатер, во время зноя дневного… Три ангела и чаша. Видит Бог, я эти строки знаю назубок… Палило солнце Ханаана, когда из мари миражей Господь явился Аврааму в обличье троицы мужей. Узрев три высветленных лика и поклонившись до земли, им Авраам сказал: - Владыка, передохнуть благоволи! Чела сожженные густою листвой дубравы осени и родниковою водою омой избитые ступни. Хлебами в дальнюю дорогу вы приготовите сердца и насладитесь понемногу, отведав нежного тельца… Хоть Авраам с женою стары, Господь ему пророчил так: приду опять, когда у Сарры родится мальчик Исаак. Смеялась женщина упрямо, но повторил: произойдет, вам говорю, от Авраама великий избранный народ… П а м: - Узнал? Для Вожемского храма икону эту сладил ты. Не потому ль у Авраама твои мне чудятся черты? А в лике Сарры, как ни странно – для коего из трех суда? – черты тебя любившей Анны я замечаю иногда… С т е ф а н (с иронией): - Неоспоримая улика!.. Но злую радость умали: ты узнаешь в овале лика приметы собственной земли! П а м: - Изобразя не лики – лица и вновь упорствуя в гордьбе, ты вынуждал людей молиться уже не Богу, а себе! С т е ф а н: - Иль за навет какую плату решил у дьявола найти? Душою темной многовато ты нахватался на пути… П а м: - Рви шерсть из собственного носа, полено в собственном глазу найди. Желание доноса не ты ли выпустил в грозу?.. С т е ф а н: - Но чтоб укорениться прочно и принести такую гроздь, нужна ухоженная почва, где разлита в достатке злость. Бесчеловечные юдоли в тебе оставили, Бог весть – то ль жажду правосудья, то ли всепожирающую месть. Иль, поспешая на свиданье и предвкушая торжество, ты жаждал самооправданья и покаянья моего? Мой суд во мне и горней дали, в горенье вышнего огня!.. Но ветер слаб, и не пора ли тебе отвеять от меня? Смечай и далее пороки из поднебесной высоты. Грозят полуденные токи теням погибелью… П а м: - А ты? С т е ф а н: - Угодно Господу служенье продлить, наверное, мое. И отошло изнеможенье, и отлетело воронье, и врач неведомый извлек кость, ножом коловшую в груди, и – удивительная легкость и свет неяркий впереди… П а м: - Не удивляйся: возлетела душа твоя от плоти вон, и чернецы над бренным телом хвалебный справили канон. И на заоблачной равнине, надежды жизни хороня, тебе, христианин, отныне не отлепиться от меня! С т е ф а н: - Да, над земною суетою во средоточии миров я слышу пение святое крылатых ангельских хоров, где меж небесными стенами приоткрывается окно. И давней тяжбе между нами продлиться, видно, суждено. Да видит Бог, докучный друже, чего от Господа ни прячь, перед Судом Его не нужен ни обвинитель, ни толмач. И даже в адовое пламя не надобен сверхсчетный бес… П а м: - Но человеческая память короче памяти небес. Одолевает в человеке его животное родство. В каком-то, хоть двадцатом, веке я отвоюю старшинство. И с освеженными устами восстанут истуканы битв, и ты перед Судом предстанешь без обеляющих молитв! С т е ф а н: - Перед открытыми дверями, покуда светоч не потух, Тебе, о, Господи, вверяю свой грешный покаянный дух. Во искупление на ленту пергаментную занеси мою умеренную лепту в миростояние Руси. Под опаленным небосводом, какая б ересь ни ползла, дай устоять ее народам противу гибельного зла. В неясный день и темной ночью перед лицом любой орды дай удержаться в одиночье от униженья и горды… Я пред Тобою, как на блюде – суди, карая и гоня! Не поминайте лихом, люди, и помолитесь за меня… © А.П.Расторгуев |
