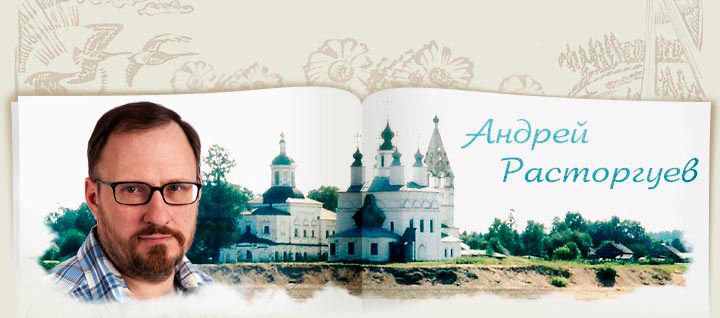
Древо |
 РИДЦАТЬ ШЕСТЬ И СЕМЬ РИДЦАТЬ ШЕСТЬ И СЕМЬПоэма В городке не высоком, не низком и тебе от рождения близком ты живешь, не меняя прописку, от добра не желая добра. Хоть жена мне – а не декабристка. Да и незачем, коль севера. Я и сам полюбил их воочью потаенною белою ночью, упоенный печорскою мощью, и того не стереть, хоть убей, даже тучами, рваными в клочья о крюки обнаженных ветвей. И как будто любовь между нами. Но, как будто в дешевом романе, ты меня упрекаешь в обмане и печальный подводишь итог: мол, приехал, наплел, отуманил, а теперь норовишь за порог… Севера вы мои, севера… Я на свет родился не вчера. I Вот и мы первый тайм отыграли. Тридцать шесть, как один, миновали, и подумать о том не пора ли, где роднее и мягче земля? Все могилы мои на Урале – за две тысячи верст киселя… Молодые пускай отмахнутся, пожилые пускай усмехнутся, но мгновение – и запахнутся от промозглого сквозняка, если в толще земной ворохнутся потревоженные века. Я уже отмахнуться не смею, усмехнуться – еще не умею, и осенней порою немею, глядя, как высыхает трава и река, остывая, темнеет, и редеет живая листва… Что за обереги и чуры? Повышение температуры или просто литература перехлестывает за край? Поэтичные мы натуры – все Дантеса нам подавай. Тридцать семь – и зайдется сердечко, и мерещится Черная речка, и картонные человечки, и возвышенные слова… И затеплившаяся свечка перед образом Покрова… Сколько начато – будто начерно, сил потрачено – бог ты мой! Годы минули – силы схлынули. Вполовину ли, Бог ты мой? Или это холодной тьмой – окаянный тридцать седьмой? Он у каждого века свой, если даже век золотой… Помню похороны отца. Мы с ним ссорились без конца. Лей поболе свинца в словца – лишь бы не потерять лица… Провожатые вразнобой сокрушались, что молодой. Я внимал, головой кивал, а душою – не понимал. Но все менее мне пути до его сорока пяти… А как маму мою несли, не хватило ей там земли, и лежит от него вдали, и растут над ней бодыли… На погосте трава густа, есть в ограде еще места – для себя, а не для меня припасла их моя родня. И расти мне в земле иной новой веткою корневой. Над Печорой? Двиной? Невой? II Поубавилась ныне Россия – коренные да некоренные… Сколько ратников пьют стременные, сколько путников на посошок – так шевелит пласты временные и волосья иной корешок. Если он до нутра доберется, все расколется да распадется – московиты да нижегородцы, как свою ни вынашивай спесь, из-под всякой земли отзовется чудь, земигола, меря иль весь. Да и сами, сойдясь именами, мы доныне живем племенами. И иными когда временами мы от лучших времен далеки, кто поможет хотя бы словами? Корешки, свояки, земляки… Но куда инородцу податься и какому народцу поддаться, за какие колодцы сражаться, а какие оставить навек? Где бедою понудишься – братцы! – и откликнется хоть человек? Кто, на торную глянув дорогу, за обитые сталью ворота перехожему вынесет воду и не справится, чая вреда: а какого ты племени-роду и какого явился сюда?.. В экипаже, по сути, убогом, упираясь горбом или рогом, по чащобам, степям и отрогам материк опоясавших гор – словом, ныне по русским дорогам я немало резины истер. И в земле золотой или медной, замечательной и незаметной, поисхоженной и заповедной, в суете городской и в глуши и закатной порой, и рассветной не встречал неприветной души. Спелых яблок на тракт выносили, невысокую цену просили, кто, откуда, куда вопросили не однажды, а все не за страх – любопытствующих не судили никогда ни Христос, ни Аллах… Не во многом расходятся правды у неверных и бусурман. Воды Калки и воды Непрядвы воедино смешал океан. И единая нам основа на грядущие времена коль не воинство Пугачева, так Отечественная война. И когда, выходя на дорогу, мне потомок ордынских татар вдруг воскликнет: «Аллаху акбар!», я отвечу ему: «Слава Богу…» Лишь бы в утро лугами росными не дымами плыла заря, лишь бы яблони медоносные не ломились плодами зря… III Но и впрямь: что нас гонит и гонит в неизведанные пути? Отчего изнывает и стонет неприкаянный дух взаперти? Отчего, только вскроются реки и подсохнет окольная грязь, бьется птица в живом человеке. о пруты костяные стучась? То ли ведреная погода, то ли ветреная порода, то ли вечная несвобода или вешняя колгота. То ли ветхая изгорода или дальняя долгота… От рассвета и до рассвета нас тревожит и то и это, перекатывается лето, и еще, и еще одно – все быстрее кружит планета житевое веретено. И непрочная нить стекает, время зыбкое истекает то поденщиной, то стихами. Но и звуки – надолго ли? И яснее моих стихали, занесенные в ковыли. Но в ковыльном тугом колчане и угрюмом лесном качанье, крике птицы и пса ворчанье все хранится живая речь. Не услышать, не устеречь – задохнется земля в молчанье… Так, смирясь или руки в боки, безымянны и одиноки, мы пройдем в стрежевом потоке неизмеренной глубины – доморощенные пророки, местечковые плясуны… Но досада буравит темя: мол, еще остается время. чтобы ногу – в златое стремя, а железного не приму. Дело вовремя – не беремя, коль по норову да уму. Коль поется – без перепеву, безымянно - именовать! Коль не любится королева, так супругу короновать! А поется – в пути раздольном, а корона – во граде стольном да в биении колокольном в раззолоченном во дворце тяготой на челе невольном да заботою на лице… Вот я, милая, и катаюсь – то ли, гордостию питаясь, удоволить ее пытаюсь, то ли дело себе сыскать, чтобы силы, пока остались, суетою не расплескать. Но столица взирает строго: я одна, а наезжих много… Замыкает кольцо дорога. и опять во дворе стою. Остается поверить в Бога и во близость к нему твою. IV Хлопоча поутру на кухне, ты боишься, что мир твой рухнет, и полуденный свет потухнет, хохотнут за окном сычи, и остынет постель в ночи, сердце мертвой тоской набухнет. Или все нажитое – комом, чтобы в городе незнакомом снова обзаводиться домом и чужих узнавать людей, что привыкли к иным законам – откровеннее и лютей… Но покуда ценой такою не куплю своего покоя. Хоть порою до паранойи бессловесная давит глушь, остаюсь. Я отец и муж в этом городе над рекою. Все имеет и цель, и суть, основанье и приращенье, если даже столетний путь завершается возвращеньем. Все имеет и свет и след, осязаемо и упруго, если двадцать протяжных лет Пенелопа ждала супруга. Но, грядущим певцам в пример, допускать не желая фальши, хитроумный слепец Гомер не пропел, что случилось дальше… сентябрь – ноябрь 2000 г., Сыктывкар. © А.П.Расторгуев |
