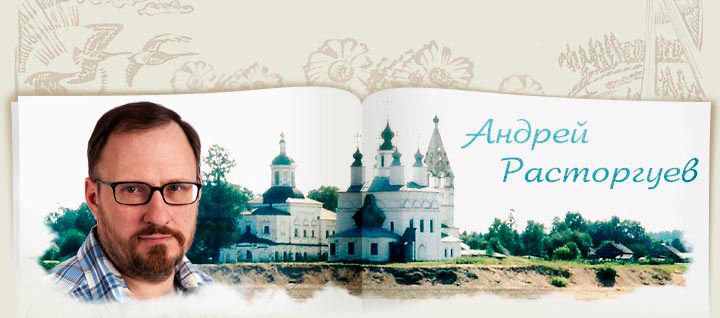
Дыхание жизни (о книге Юрия Перминова "Свет из маминого окна")  ЫХАНИЕ ЖИЗНИ ЫХАНИЕ ЖИЗНИКажется, положи эту книжку рядом с пачкой глянцевых журналов – и тут же заискрит, заполыхает. Уж очень явно, вызывающе негламурна стихотворная исповедь повидавшего виды мужика, живущего в старой хрущобе на окраине города, который хотя и побывал однажды столицей, но только Сибири, весьма недолго да ещё при Колчаке… Впрочем, это мечты и попытки переплюнуть обитателей пресловутой Рублёвки и прочих новорусских мест, как правило, агрессивны. Лирический же герой омича Юрия Перминова ныне исполнен мудрого смирения: Что поведать городу и миру в тихий час? – На кровные свои обживаю старую квартиру – безраздельно, трезво, без семьи и собаки… …надо жить, хоть что-то обживая: подворотню, кустик ли какой… Понятно, что для веселья это место града и мира оборудовано мало. Хотя район и, что называется, спальный, сразу в нескольких стихах упоминается пьянствующий сосед, «тридесятый, наверное, год» по ночам не дающий покоя. А к вечеру тихого дня герой сокрушается о несбывшейся примете: не то, что мент – никто в отмолчавшемся доме не родился. И тот же самый сосед, затихарившийся по редкой трезвости, пугает своим молчанием – не стряслось ли с ним чего? В конце концов, и вправду стряслось: Не спалось… Вдыхал ночную горечь на балконе – где-то жгли костёр… Крылья – еле видимые – горний свет над нашим домом распростёр… И была холодной, безответной та звезда, а я – не спящий – не знал о том, что в эту ночь сосед мой умирал, как праведник, во сне… Не собственное одиночество – или не только оно – по русской литературной, да и жизненной традиции печалит героя и при виде замкнувшегося в своих думах обыкновенного прохожего: «…в китайской одёжке идёт потребитель «фаст-фуда»,/ заложник рекламы, которой мой город пропах…». Эта чужая замкнутость вдруг оборачивается собственным горьким ощущением: «…не видя друг друга, проходим, как многие, сквозь/ друг друга…». Но всё же и этот «каменный окраинный район» унаследовал многое от своего обветшалого подлинника – прежнего тихого деревянного переулка, на месте коего выстроен. Хотя он богат одним лишь теплом – зато богат. Зато здесь «...и нервы не тратят собаки на поиски пищи,/ и здесь от соседства немного совсем до родства…». И, выйдя на «немой засаленный проспект», его чуткий житель может почувствовать, как «меня вдыхает осторожно/ проспект, голодный на тепло…». И на виду у солнца, птиц и хороших людей может с утра дружить с плывущими за ним по тихому ясному небу облаками – хотя, конечно, жаль, что со стороны никто эту дружескую компанию таковой не распознаёт. Самому же герою для того, чтобы воспрянуть духом, этой малости вполне достаточно: …Продолжается жизнь – временами, как сажа, бела. Можно вечность прожить ради нескольких светлых минут, Чтоб увидеть хоть раз: облаками ночного тепла Сновидения утром по талому небу плывут. А в молодые – 1980-е годы, как водится, желания и ощущения были покруче: «Я был монтировщиком сцены/ и Солнце тогда поднимал!». И обживал целый мир, да насовсем, прося у отмеряющей годы кукушки не сладкого, а горького неба и чёрствого ветра. И рядом с костром, шипя, падали в снег не искры, а лопнувшие от мороза звёзды, и, росший, по мнению домочадцев, с детства единоличником, он был готов присвоить, ощутить частью себя не только сына и дорогу, но и всю Россию. И сокрушался о противоположном нынешнему: «…Неужели и мне во Вселенной/ не удастся побыть одному?..», отнюдь не тяготясь своею неизвестностью – вот маячащий за окном рассвет тоже вроде яркого имени ещё не нажил, а каким знаменитым днём он может стать. Если автор, включая эти стихи в новую книжку, и посмеялся над самим собой тогдашним, то явно безо всякой злобы. И не от излишней любви к себе – просто и последовавшие затем известно какие девяностые его персонаж вспоминает, судя по всему, столь же спокойно. Когда перед другими открылись широкие возможности для накопления, он, похоже, сознательно выбрал путь нестяжательства. От гари, от пыли, зазноб и заноз уехал в деревню к бабусе любимой… - Бог с ними, не думай, – бабуле скажу. - Бог с нами, однако, – поправит бабуля. На этом пути – совсем иные слоганы. «Всех жалей…», завещанный бабушкой («…Слов бабуля выдохнула мало,/ но сказать мне главное – смогла…»). Мамино напутствие: «…С Богом, сынок, иди, с Богом, сынок, возвращайся…». И радийному эстрадному голошению «за любовь» следующий этим заветам, разумеется, предпочитает шелест рябины, «что под небом парным распушилась четвёртого дня…». И видит, что доживающая в ветхой избе свой век без денег и хлеба одинокая старуха, затапливая печь, не только себя, но весь белый свет согревает. Как, собственно, и он сам: «…Согреваю зябнущее утро/ тёплым отношением к нему…». И, везя из дальней поездки для матери пуховый шарф, искренне сочувствует попутчику, что горестно уткнулся в вагонное окно: «…Неужели/ ничего он маме не везёт?..» Сам автор тоже предлагает своему времени и людям афористичные девизы. Что нечастыми газетными интервью: «У Поэзии – задачи не душещипательные, а душеспасительные…». Что концовками многих стихов. Страна обледенела – «…Но я заметил: с большей теплотой/ мы друг на друга смотрим на морозе…». Душа и тело неприкаянны, однако «…не важно, где согреют, если есть/ куда зайти непрошеным согреться…». А что до отпуска в заморье, куда перевоз, как известно, рубль, да не простой, а золотой: «…Пусть другие дяди едут – наше небо/ не казалось нам с овчинку никогда…». От традиционного сочувствия обездоленным до если не политического, то социального негодования, которого русская литература тоже никогда не чуралась – один шаг. И Перминов почти делает его: в том же плацкартном вагоне («…Здесь нижние полки не хуже, чем верхние полки, –/ напрасно об этом не ведают там, наверху…»), на барахолке («…Не случилось продать ничего из того, что вчера/ просто выбросить или до смерти сносить не успели…») или в магазине, покупая классический набор из бедняцкой потребительской корзины – мыло, крупу, соль и спички («…проживём и с этим, а буржуи?/ Как буржуи с этим проживут?..»). Однако завершение этого шага Юрий, похоже, оставляет всё-таки для своей журналистской ипостаси. Тем более что сегодня «…Уже не с «этими», не с «теми» я,/ а только с Родиной самой». С этой колоколенки «собственно» поэтические, формальные ухищрения Юрия явно не заботят. Хотя специально для эстетов или по собственной внутренней потребности он то с лёгкостью на анжамбеман намекнёт, то импортным словцом совершенно отечественный пейзаж освежит («Как с похмелья, дождик мается/ неприкаянно с утра –/ обволакивает матрицу/ нелюдимого двора…), то с древнеримским коллегой запросто побеседует: …Мечтатель Тибулл – мастер любовных идиллий – только вздохнул бы, сердешный, в парке у нас побывав, вопли ночные услышав: «Здесь никогда не любили!» …Я бы ответил Тибуллу: «Альбий, ты всё же не прав…» Да и обращается он, как следует из уже процитированного в самом начале стихотворения, именно к городу и миру – всё равно, что папа римский. Словом, и в Сибири отнюдь не только валенки носят: мы тоже могём – и не только самоуком, но и классическому образованию и чуткости ко всему сущему благодаря. Сущим, однако, а не внешней его оболочкой и вдохновляемся… Одиночества перминовский герой уже наелся до такой степени, что, приходя домой, стучится в собственную дверь, «забыв о том, что нет меня за нею…». А в другой раз дома, услышав стук, подходит к двери и – «…Открыл. Но в комнату с порога/ дохнула вечность веково./ …Стучало сердце. Слава Богу –/ я думал: нету никого…». В общем, вполне достаточно, чтобы хотя бы из чувства самосохранения сказать самому себе: «…Уходи под небо – поспеши! –/ из-под крыши. И как можно дальше/ за пределы собственной души…». Хотя бы просто погулять, понаблюдать за людьми и вновь почерпнуть мудрости у бабуси, которая нюхает ромашку отнюдь не потому, что впала в детство, а поскольку «…ведает она,/ ЧТО жизнь на самом деле стоит…». Или, увидев возле пятиэтажки грядку с укропом и редиской, ощутить: «…Жизнь – бесконечна, если тянет/ к земле и в городе людей…». И, поглядев, как «…ветер тащит к нам – не на гулянку,/ для спокойной радости в душе! –/ медленно за солнечную лямку/ тишину на облачной барже…», снова понять: «…здесь хорошие, славные люди./ Здесь по-прежнему любят, прощая незнамо за что…». Ну, мужчину, естественно, отнюдь не только бабуси интересуют. Чтобы «почувствовать сердцем дыхание жизни самой», ему достаточно и мимолётной женской улыбки – даже, скорее всего, не ему адресованной. Как опытный человек он, конечно, может со знанием дела поддержать традиционный для мужской компании разговор: «...Жить бы там, где женщины не просят/ денег и не требуют от нас –/ мужиков – чего не знают сами…». Однако это всего лишь маска: «…Приезжай, любимая! – и требуй,/ и проси, и требуй, и проси…». Тем более что прежний опыт уже перегорел, и прежняя жена теперь – снова супруга, но чужая, и снова тяжела, но уже чужим ребёнком. И всего-то и осталось, что попрощаться и попросить у Всевышнего, «чтобы роды прошли у неё, как положено им…». И взгляд открывается для новых наблюдений: Я так непринуждённо не сумею, быть может… Из бумажного кулька черешню ела женщина – за нею с восторгом наблюдали облака. Небесный свет пульсировал в черешне, а время соком ягодным текло, и ничего из горестей вчерашних произрасти сегодня не могло… И новая любовь не сжигает прежних страниц, но открывает ещё не заполненные: «…От прошлой жизни суетной моей/ любимой ни мгновенья не досталось:/ объяло дни вчерашние быльё,/ теперь и жить по-новому сумею…». И верится, что «…Жизнь впереди – ещё, возможно, долгая./ Такая, что едва ли надоест…». Андрей РАСТОРГУЕВ, поэт, член Союза писателей России. Перминов Ю.П. Свет из маминого окна. Книга лирики. – М.: Голос-Пресс, 2007. 19,04.2008 |
