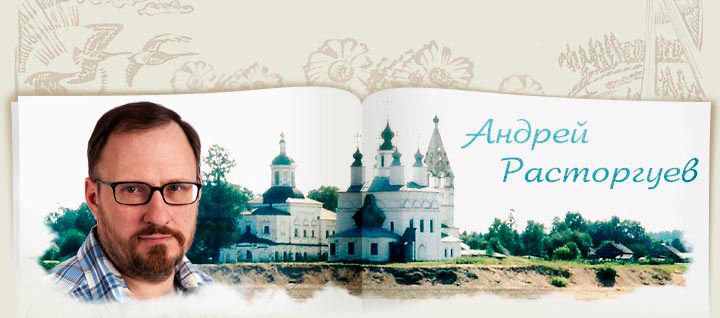
Увечье речи (о книге Е.Извариной "Голос и ветер")  ВЕЧЬЕ РЕЧИ ВЕЧЬЕ РЕЧИО том, что поэзия Евгении Извариной отнюдь не предназначена для лёгкого чтения, свидетельствует уже эпиграф новой книги, которая всего на сотне страниц подытоживает почти двадцать лет её творческого пути. Уплотняющее текст отсутствие знаков препинания и подсобных глаголов, мешая одолеть эти первые двенадцать строк наскоком, заставляют остановить будничный бег и стряхнуть с себя расслабленное умиротворение или даже отложить книгу до выходного: Сердце беги не стой пламем над берестой будь берестою будь пепла на чуть всё путь Осень морозный склон путь это быстрый сон остовом в острый лед осень обряд охот… Отрешиться от суеты, освежить разум и чувство необходимо – только тогда из-под ложащегося на одну из хрестоматийных визборовских мелодий размера проступает далеко не элегическая тревога: «…Заиндевел засов/ жизнь выпускает псов/ сердце беги беги/ Господи помоги…». Повторяясь в целом ряде других, столь же лаконичных стихов, этот приём и дальше поддерживает в читателе медленное, внимательное дыхание, одновременно раскрывая перед ним простор для ассоциаций и интерпретаций. А, кроме того, позволяет понять: автор отнюдь не относится к числу тех стихотворцев, что используют современные выразительные средства ради модернистской проформы или, того хуже, превращения поэтической ткани в бесформенные лохмотья. Напротив – воплощает этими средствами вполне традиционные во всей глубине этого слова чувства к тому, что всегда являлось предметом русской поэзии – человеку и его отношениям с народом, временем, Родиной и Всевышним. Человек – сухарь без соли, без особенных примет. На ступнях его – мозоли. На ресницах – пыль комет. На губах – огонь и влага, жаль, за пазухой темно: будто вынул, бедолага, «пусто-пусто» в домино. Чуткости бы этому сухарю поболе: «…Над ним шумело дерево Сегодня/ листвой, прошитой золотом насквозь./ Но он не слышал – словно веера/ горчайших игл в грудную кость стучали:/ в объятиях отчаянной печали/ его сжимало дерево Вчера…». И он «влачит судьбу свою по кругу/ все ищет имя в именах/ беспрекословному испугу», и ему, хотя «жизни азбучная вязь» уже затягивает хмелем пепелище, слёзы всё равно застилают полмира. Этот слабый человек находит в себе силы выстроить не только дом, но и храм, «сад и вертеп, казарму и монастырь». И о болевой порог не запнётся: «Зря, что ли, две недели тому вперед/ сам себе выстругал небо и самолет?». Когда такие люди, которым досталась «земля – не пирог с голубями», собираются в народ, получается тоже не подарок: …заставь его Богу молиться – и Бог чертыхнется во сне: «За ум не возьметесь – урою!..» А у самого еще как не ладится с этой страною, и слезы дрожат на щеках… Если уж Всевышнего так достали, нечего удивляться, что запоздалый ангел «…запахнет линялый макинтош рыбацкий/ да пожмет плечами: нет, мол, оснований/ полагать, что стрелка сдвинется немного/ на часах упорства, на весах бессилья/ коли посредине озера глухого/ кто-то сложит весла и расправит крылья…» И увенчанная «барвинком-вьюнком», укрытая таволгой и левкоем, над которыми «всё-то молнии да грома» или холодные облака, Родина тайком всё носит и носит ключевую воду «в смрадные терема», и всё идёт, загулявшая, «развороченной глиной просёлка/ на высоких, как сон, каблуках». И на стёсанных плотами речных берегах «лишь ангелы и звери/ гуляют босиком», людям же приходится заключать свои тела и души в жёсткие, подчас железные сапоги. Но те же самые люди с той же самой реки по-прежнему кричат той же самой Родине: «Сестра!/ Не вини себя, что была строга,/ позови, коль нужда остра». И, хотя «…третий четвертый и пятый Рим/ пересекают пустыню вплавь…», вожделенные для некоторых «ковбойские города» пусть идут прахом – «там бы мы выжили без следа/ но загораемся как вода/ необъяснимо и навсегда…». Да ещё, на жаровне корячась, просим огонька подбавить. По лихости, дурости или привычке – это уже пускай прозаики разбираются. Поэту же одного взгляда и восьми строчек достаточно, чтобы узреть в сулимой ему и тому же пылкому народу свободе торговую шхуну, которая под «Яблочко» и «Сулико» и под высокими флагами «…прячет по трюмам бездонным/ мешки жестяных номерков –/ так много под парусом темным/ сменила она моряков…». И обжёгшимся в пору миллениума «головотяпам», в коих просматриваются призывавшие к этой свободе шестидесятники, теперь нечего вздыхать: «Ах, гуляет ветер в чистом поле/ гам, где подавали нам хинкали,/ насыпали розовой фасоли…». Ужо извиняйте – за что боролись: «…сели на скамейку/ с новомодным пивом,/ с полным правом…». Впрочем, столь неприкрытый – и то в огрубляющем пересказе – прорыв чисто конкретного времени остаётся в этой книге, пожалуй, единственным. В других стихах автор отдаёт дань эпохе ещё более тонко, опосредованно – хотя образность остаётся вполне осязаемой. Вот, к примеру, «…корабль плывет – будто кто зовет,/ тянет нерв, как из бруса гвоздь…». И на плечах призываемых в бурлаки мертвецов «твердеет лямка, мозоль смоля,/ и кивает морской душе/ якорями вспаханная земля/ в семизвездном пивном ковше…». А вот уже не про эпоху, а просто падающий снег: «Посидим – и в путь./ Дверь полуоткрыта./ Улица по грудь/ в снегопад зарыта./ Через полчаса/ будет – по макушку,/ если в небеса/ приоткроем вьюшку…». Или: «…снег на полусогнутых/ город обошел…/ тихо будто заново/ мама родила…». А вот про целую жизнь, которая «проходит, как товарняк/ по эстакаде: он бесконечен,/ но лишь в пределах вагонов ста,/ или того в половину меньше» и требует умения «читать с листа/ прежнее и дальнейшее…». Но за всю эту жизнь, с её яркими мгновениями и озарениями «…Лишь одежд касаемся украдкой./ Лишь ветра от одежд…». И душа, произнесённая – разборчиво ли? – во сне уставшим Господом, что весь день провозился с глиной (а в другом стихотворении – с «тёмным заревом»), «…и в лучшей поре/ вся она – как на ладони зверушка:/ при смерти и при Царе…». А вот уже совсем пересказу не поддающееся, воображением и на волю оного же выпущенное: Что стоило б мессы – не стоит труда. И то – на плечах – голова… «Плодите детей, умножайте стада…» – Ты помнишь, чьи это слова? Ты помнишь, как пьяный факир лопотал, когда выводили его: «Огонь – холоднее всего, что глотал, огонь – холоднее всего…». Эти осязаемость и парадоксальность, да и многие интонации нет-нет да и напомнят Цветаеву. А ещё в кругу изваринских собеседников Блок и Есенин, Заболоцкий и Бродский, Рейн и Кушнер – и, разумеется, многие уральцы, среди коих по-прежнему не менее, а уже, сдаётся иногда, и более чем стихами смертью своей выделяющийся Борис Рыжий. Тут, похоже, с подобающей скорбью, но без придыхания: свалить не за бугор, а под бугор – для кладбищенской травы всё едино. И скороходами по жизни мчались и падали за несколько шагов до рекорда многие. Хотя состязание продолжается и теперь, после физического ухода: «…Память – последняя ставка:/ выиграй – или умри…». О разлуке во всех её смыслах у Извариной немало – чувствуется, пережила. Именно испытавший и знающий может собрать все связанные с этим смыслы и чувства в короткое: «…не забывай бывай/ только-то и всего…». И в то же время, ощущая «дыры дыханья везде твоего –/ черные окна на здешнюю сторону», увидеть, что происходит за чертой, которая отделяет уходящих: кинув весла плыть и плыть близких рук не задевая невозможно все забыть страшно жить не забывая стать как дождь и корабли замечать как слава богу наваждение земли отпускает понемногу… Однако и по эту сторону черты, в том самом земном наваждении есть многое, что отнюдь не торопит её пересекать. «…переговоры в темноте,/ когда проводишь по гортани/ границу света, тени, ткани/ а дальше» встреча ладоней, и неровное дыхание, и тот же простор для воображения. Ночная прогулка, позволяющая возвысить замыкающее аллею дерево до библейского, а у входа оно или выхода – это уже «как вам взглянуть удобней…». Минута, когда «в твоей руке лежит моя рука/ и дальше о бессмертье мы не спорим…», ибо «мир непредставим –/ даже дуновеньем –/ за твоим, твоим/ неприкосновеньем…». А когда эта минута истекает, и пальцы всё-таки разжимаются – странное ощущение не утраты, но уносимого с собой богатства. Или бремени «в разлуке ребром оставаться твоим» – отнюдь не тягостного, поскольку дышать – это легко, и чтобы забыть, надо лишь прервать дыхание… Впрочем: Надо ли вслух об этом? Где-то невдалеке ангелы спят валетом в гамаке, в молоке завтрашнего тумана… Впрочем, темно в лесу. Только одна поляна – звездочка на весу. Однако для странных людей, именуемых поэтами, данное им при рождении «увечье речи» оказывается не только началом начал, но и просто средством сохранить разум и самоё жизнь: «…поцелуй вытягивает семь жил –/ семь дней творенья и тишины…/ Чтоб на восьмой не сойти с ума,/ пытаешься говорить сама…». И в той же разлуке, «после выноса» приходит «пониманье провала в речь». И саму себя, которой, как и всем остальным, «с первой попытки приходится жить», изваринская героиня перед зеркалом заставляет: «…повторяй за дрожащим лицом:/ «…будешь любима. Ты будешь любима…». Правда, то же самое увечье заставляет своего обладателя тянуться вверх, ибо, когда он «живёт по наклонным кругам, –/ не грубая тварь бессловесна,/ а речь нестерпима богам». Но пусть «обрученность с дикой верой,/ что за гордую никчемность/ к нам с иной подступят мерой» кажется обречённой. Если несмотря ни на что пытаешься подняться, надежда на отзвук остаётся: «…судьбу не изменишь/ не выпрямишь путь/ скажи как умеешь/ поймет кто-нибудь…». Андрей РАСТОРГУЕВ, поэт, член Союза писателей России. Иварина Е.В. Голос и ветер: Книга избранных стихотворений 1989-2007 гг. – Еатеринбург: ИД «Союз писателей», 2007. 13,05.2008 |
