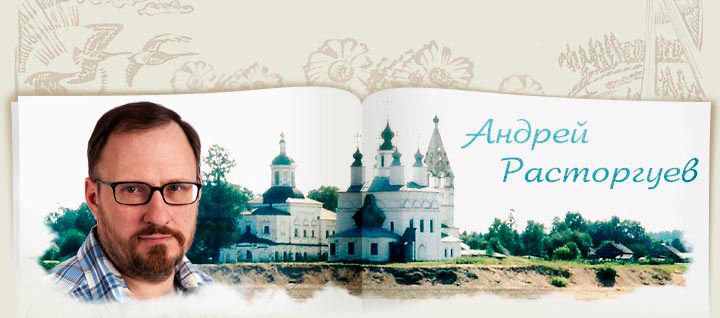
Ветка Вечности (о прозе и стихах Нины Буйносовой)  ЕТКА ВЕЧНОСТИ ЕТКА ВЕЧНОСТИМудрая память о XX веке и живая русская речь делают поэта Нину Буйносову современной народной сказительницей Приобщившись во студенчестве к молодёжному фольклорному движению, вместе со своими друзьями я был уверен, что доживающие свой век по скудеющим деревням бабушки – последние, кто хранит русские народные песни и обычаи. И без малого тридцать лет ничто этой уверенности особо не нарушало – пока в феврале 2010 года в Каменске-Уральском не вышла книга Нины Буйносовой «Студёный день». Проза жизни Чуть было не написал – «в её родном Каменске-Уральском». Но горожанкой Нина Буйносова стала, когда оказалась в школе-интернате, а потом выучилась в техническом училище на настройщицу радиоаппаратуры. А ещё немного погодя в 1969 году ушла в журналистику. Именно журналистские, очерковые нотки подчас проступают в открывающих книгу семейных хрониках «Шабаевско поле». Однако уже здесь во всей своей полноте предстаёт и прекрасная русская родовая речь подкаменских деревень, в одной из которых – под незатейливым названием Брод – автор появилась на свет за полтора месяца до Победы. Речь настолько коренная, что устояла даже перед долгой газетчиной. Самые светлые картины этой хроники связаны с жизнью у прародителей – бабушки Марии и дедушки Семёна в деревне Черемисской, в доме, где «по широким половицам, дожелта надраенным речным песочком, плотно-плотно настелены яркие, будто только что из укладки, половики…». Всего-то вещной памяти и осталось теперь у автора от той жизни, что красная, в клеточку домотканая скатёрка, на которую она девочкой то и дело умудрялась «обронить сбежавшую с горячей шаньги крупную жёлтую каплю» домашней сметаны, за что немедленно получала от деда по лбу деревянной ложкой. Сравнительным достатком дед и бабушка обязаны были исключительно собственному труду, что упасло их – и то едва-едва – от раскулачивания. А от финской и Отечественной, как, похоже, и от гражданской, дед уберёгся лишь тем, что оставил своё здоровье в окопах и германском плену ещё той, первой мировой. Саму же Нину с её двумя сёстрами и братом работавшая школьной сторожихой мать подымала одна – муж пропал на фронте без вести. Да ещё и ту же самую бабушку в конце концов содержать пришлось, ибо пенсий колхозникам тогда не платили. И, умирая, она всего-то и просила, что отведать напоследок мягкой шанежки, которую матери пришлось выпросить у буфетчицы в заводской столовой, ибо хлеб в 1963 году по всей стране выдавали в обрез и по спискам… Переписывать-пересказывать эту часть хроник, однако, нужды нет – как и другую, что рассказывает о более глубоких корнях и далёких ветках рода донских казаков, что были сосланы на берега Исети после Пугачёвского бунта. И о том, как всё дальше отходили эти ветки от земли, от родового поля. Читатель, за последние двадцать лет мало-мальски познакомившийся с отечественной историей XX века, и заочно может представить, через что прошел этот род. Но представить – это прежде всего умом, а чтобы сердцем прочувствовать– для этого нужен «Студёный день». Красно пёрышко Продолжением хроник и в то же время абсолютно самостоятельным творением предстают «Сказки-побаски бабушки Марии». Они-то непривычно для меня и продляют ту самую прерванную вроде бы фольклорную традицию от доколхозных 1920-х до первых послевоенных лет, когда в уральских деревнях «долгими зимними вечерами единственным доступным развлечением… всё еще оставались устные сказки». И то ли напрасно-таки иронизируют люди над мимолётной девичьей памятью, то ли по яркости своей эти сказки так в неё впечатались, а светятся они совсем как восиясно красно пёрышко, что помогало одной из героинь рукодельничать и счастье заслуженное отыскать. Тут тебе и смешливая сказка про окуту с того света, и грустная про дудочку, и бывальщина про колдунью, и побаски мудрые про глупых родителей, про суседушка-буканушка – домового то бишь, да «сродственника» его по прозванью Коси-Нога. Примеров, когда те или иные писательницы примеряют на себя платок Арины Родионовны или бабы-сказочницы из кинофильмов Александра Роу, по-прежнему немало. Однако Нина Буйносова этого ряжения как раз избегает, оставаясь в роли той самой «не по возрасту маленькой, худющей до черноты под глазами» вечно мёрзнущей девочки, которая залезала на печь и, прижимаясь прямо к калёным кирпичам, просила у бабушки сказку. Да и сама бабушка явно не только на слух свои побаски перенимала, а и книжной премудрости обучена была, так что девочка эта и Пушкина, и Кольцова услышала впервые из бабушкиных уст. И что уста не делали сносок на первоисточники, вряд ли можно считать особым грехом. Впрочем, явные цитаты из классиков, как и новые воспоминания о детстве, автор оставляет для своего собственного рассказа, которым оплетает записанные по памяти бабушкины тексты. И делает это настолько искусно, таким свежим и сочным русским языком, что, на мой взгляд, невольно и сама становится сказительницей – не лубочной, а самой естественной. «В одной деревне жили-были мужик да баба. И было у них три дочери. Старши-то ленивиньки были – ни грядки выполоть, ни избы подмести. Все им лень да неохота. А младшинька дочушка – Овдотьюшка – така хлопотунья, така старательница…» Это – зачин у бабушки. «Зимы послевоенного детства моего были буранные. В самые морозы снег от окошек не отгребали – для тепла, и избёнки… порой заносило до самых бровей, так что внутри и средь бела дня стоял голубоватый полумрак…» Это – внучкин запев. И, вспоминая прежнюю свою уверенность в обрыве традиции, начинаешь спрашивать сам себя: а, может быть, эта роль вечна, это место настолько свято, что не бывает пустым никогда? То ли современность сказительницы, то ли её собственный замысел – а, может, и всё это вместе – подчас наводят на самые неожиданные ассоциации. Вспоминает автор о картофельных печёнках – круглых ломтиках картошки, подсоленных и поджаренных на печке-буржуйке, а до тебя вдруг доходит: так вон когда и как появились на Урале первые чипсы! Или говорит о старой привычке казаков-донцов звать старшее поколение не «баба» и «дед», а «мама стара» и «тятя старый» – и ты вдруг вспоминаешь подобное из английского или немецкого. И мир разворачивается не только вглубь, но и вширь, являя тебе не только связь поколений, но и пресловутую нынче глобальность. Хотя кто сказал, что люди с развитым воображением не ощущали себя частью большого мира и до нашей поры? Голубень-трава «Сказки-побаски», найдись для них догадливый издатель, в руках обладающих тем же качеством продавцов, по-моему, вполне могут стать родительским бестселлером. А вот ещё одна ипостась семейного сказа-эпоса – поэма «Трава живая», которую Нина Буйносова посвятила памяти тех же бабушки Марии, матери Марины, её подруги тёти Маши и других односельчанок, – ждёт более усидчивого читателя, нежели подростки, для коих родители обычно книги и покупают. Хотя, уверен, умный и чуткий к родному поэтическому слову отрок тоже не откажет себе в удовольствии не только прикоснуться к искреннему и чистому рассказу о перипетиях жизни русской женщины в середине уже прошлого века, но и проследить за искусством рассказчицы. А рассказчица совсем по Чехову представляет читателю в начале одёжку, по которой узнаёт на осеннем базаре давнюю материну товарку тётю Машу: «Лето связано в пучки – / По двадцатчику за штуку./ Натрудившуюся руку/ старой травницы беру./ Чёрный плюшевый жакет,/ Как у мамы, сохранился…» Не ружьё, конечно, да тоже деталь. Когда февральский буран сорвал с фермы крышу, семеро подруг-колхозниц спасли-выходили новорожденных телят, и такие модные в ту пору жакеты справил героиням расчувствовавшийся председатель. Да так и остались, похоже, эти обновы единственной за всю их жизнь официальной наградой. И уже другое кольцо, что начинается со сцены банного мытья: «…Ртом и телом – полной мерой –/ Горьковатый плотный зной!/ И обкачена по первой,/ И обмыта – по второй…/ И скамейка необъятна./ Щиплет щёлоком глаза./ И в ромашковой, и в мятной –/ Косы моют в трёх тазах…» А завершается – через годы: «В водополье ли водицей/ Жизнь прохлынула-сплыла?/ …Скрипну старой половицей./ Нынче мама – легче птицы. / «Мам, я воду налила…»/ …Без ромашки и без мяты/ Мою маму – свой остатный / Долг давнишний отдаю…» И теперь уже дочь возвращает матери её давний заговор: «С гуся-лебедя – вода!»… А проходят через эти и другие кольца, свивая их в неразрывную цепь – травы. Ими тех же телят выпоили и сами от множества хвороб спасались. Множества – да не всех: деда Семёна от последствий германской газовой атаки не вылечили, и старшую дочь тёти Маши от дифтерита, и одного из двух её же сыновей от белокровия, наведённого радиоактивным следом аварии на ядерном комбинате «Маяк». И внучкá этот след достал на излёте: «Вот какое дело – нечем/ Ладить парню ребятню./ Самоглавнейшая снасть/ Потеряла силу-власть…» Оценить таким образом ситуацию, сдобрив её интонацией солёного анекдота, могут и вечно хорохорящиеся мужики. А женщина мыслит иначе: «…От негаданной напасти/ Роду целому пропасть….» И всё-таки тому же взрыву «мирного» атома Нина Буйносова неожиданно находит беззлобное, совсем домашнее сравнение: «…Так ухватит баба чайник,/ Руку жжёт через платок,/ Ну, и вымахнет, не чая,/ На себя же кипяток…» И пускай «тяга кровная к земле», дотоле не переводившаяся в роду, «стала жухнуть, словно травы», одноимённая трём близким автору женщинам голубень-трава Марийка, даже согнутая и измочаленная, продолжает жить. И «нет народу переводу,/ Коли травушка жива…» На водяных весах Вода у Нины Буйносовой тоже живая – так она и назвала свою вторую поэму. И, словно женщина, эта околоплодная вода первобытного моря, из которого волею Творца вздыбилась суша, порождает жизнь. И в обильных водах тяжелеющего женского лона эта жизнь бьётся ключиком. И лебедь над водою, и осётр и кит по воде стремятся на Север к продолжению своего рода. Вода – крёстная мать Христа – расстилает перед ним морскую волну и становится Его кровью, и возносит Его на облаке, а в Крещение омывает тела тех, кто решается шагнуть в крестовую прорубь. И всё так, покуда за дело не берётся человек. Тогда пиши пропало: усыхает Арал, вольные кобылицы рек стреноживаются путами плотин и утрачивают жизнь в отстойниках, а радиоактивное озеро Карачай пробивается подземными ходами в родники и колодцы. И автор, ощущая себя частицей мировой воды, «каплей крови из вены земной», вглядывается через окно в лунную ночь – и Луна представляется ей огромной лупой, в которую Всевышний исследует её… Какая из чаш – с публицистикой или поэзией – здесь перевешивает, каждый из читателей волен решать сам. Возможно, планетный масштаб местами стоило уравнять глубиною микрокосмоса. Вода, женщина, животные, моря-озёра и сам Творец, становясь глобальными персонажами и ведя разговор друг с другом, побуждают желать чего-то малого, личного, сквозь которое, как в игольное ушко или маленький диоптр, стали бы различимее и отдалённые очертания. Но как бы то ни было, а в этой поэме автор, сохраняя гибкий народный лад, ярко демонстрирует свою причастность современности. Хотя, конечно, тот же Арал как символ человеческого надругательства над природой особенно было принято вспоминать на рубеже 1980-90-х. Стихи нелёгкой мудрости В связи с отсутствием датировки догадываться о времени написания приходится в отношении не только поэм, но и отдельных стихов, составивших четвертый раздел книги. Вот, похоже, из того периода, когда автор ощущала свою чуть ли не животную связь с природой и, описав полнящийся звуками нового приплода заснеженный лес, вдруг практически теми же красками рисовала человеческое логово: «Двуногая самка уткнётся/ Лбом в странный нетающий лёд/, И голый зверёныш проснётся,/ К соскам нагрубевшим прильнёт./ И сон будет странно тревожен/ У матки и сына её,/ Пока их самец толстокожий/ Готовит к охоте ружьё…» А вот неожиданный отсыл к современным технологиям: «Не на скрижалях – на дисках озёр/ Пишет заветы нам Космос осенний…» Вот откровенно-сокровенное краткое обращение к любимому: «Прильнуть к тебе./ Приткнуться у колен –/ Вот всё, что у судьбы прошу и неба./ Чтоб вздрогнул ты –/ И будто бы и не был/ До этого мгновенья на земле…» А рядом – квинтэссенция бабьего одиночества: «Как во поле – четыре воли…/ А четвёртая волюшка – горше всех, / Так ли горше – не вынести:/ На два голоса песню одной вести…» И следом – жажда снова почувствовать движение жизни: «…Жить никак – это хуже всего…/ Строньте кто-нибудь с места мой маятник,/ Отпустите качаться его!» А вот – опять-таки неожиданный высокий взор на последнее предзимье: «…Там, на разлюбленной Земле,/ Поля дымы вздымают в Космос…» И переживание ещё одной женской судьбы: «…Голубиною судьбиной/ Не случилось ворковать,/ Не с желанным – с нелюбимым/ Получилось вековать./… Лишь когда рукой коснулась,/ Чтоб глаза закрыть навек,/ Не сама – рука очнулась:/ «Ох, родимый человек…» И предчувствие, пришедшее на старой дороге: «…Ни ограды кругом, ни колышка./ Здесь полынной душой из горлышка/ Деревенечка истечёт…» И осознание, как по-разному поют одну и ту же известную песню о милом в защитной гимнастёрке вдовы погибших солдат и дочери тех, кто вернулся с войны живым. И ощущение: «…Гудят во мне те вдовьи судьбы,/ Как в гулкой раковине – море…» А вот – о матери, что с самого раннего утра торопилась «наткать к зиме половиков», а потом расстелила своим детям недоспанные зори. И о другой женщине, что «творила лёгкий хлеб на жарких кирпичах», а в последний час «Просила всё воды из дальнего ключа/ И мягкого, сожми – и выпрямится, хлеба…» Но все эти избранные и разные стихи подспудно объединяет мотив мудрости – той самой, которая «…тяжела/ Сознанием невечности земного…» За прозрачными крыльями стрекозы, в которую превратилась просто, как бельё, сменившая тело личинка, автору видятся «тысячелетья, прожитые разом». …И что за стрежнем лет, за быстриной? – Сказала б стрекоза, да не умеет. На стебле голубые крылья греет И ждёт меня у входа в мир иной… И собственная душа представляется поэту пыльцой, которая подобна той, что жадно ждут цветы «И слепо устья раскрывая,/ Друг друга шарят по лицу,/ Чтоб продолжалась плоть живая….» И когда убогий бродяжка, присев на берегу, срежет дудочку – душа поэта пробежит по его сердцу «стайкою нот босоногих». С такой же дудочкой где-то бродит по свету Лель – всё такой же молодой и дразнящий спелым яблоком новых девушек. А у поэта теперь из её собственного сада, прополотого и политого к ночи, тех же «…яблок тёплые планеты/ К ногам Создателя летят». Однако она вовсе не спешит срывать с ветки последний плод, вместе с которым «…сорвётся с ветки время,/ И враз настанут холода». И «чтобы душа не отлетела», держит ладонь у груди, глядя вперёд, где «…Только небо, колея, да только Вечность,/ Веткой голою задевшая меня…». Андрей Расторгуев, поэт, член Союза писателей России. Буйносова Н.И. Студёный день: стихи и проза. Екатеринбург: Издательский дом «мАрАфон», 2010. 31,03.2010 |
