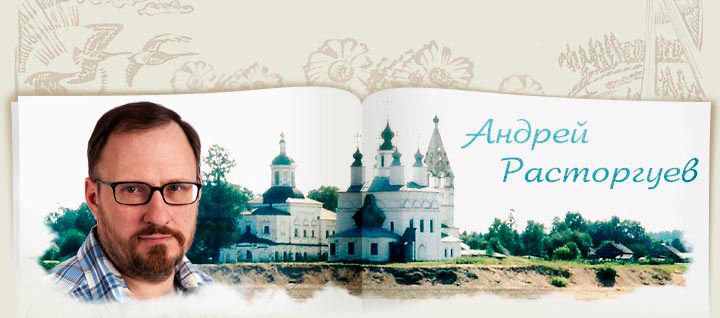
От земли до неба (о творчестве Нины Ягодинцевой)  Т ЗЕМЛИ ДО НЕБА Т ЗЕМЛИ ДО НЕБАУтоляя жажду речи, поэзия Нины Ягодинцевой стремится сохранить цельность бытия и мироздания Отходя за спину, время тотчас уплотняется, словно позавчерашний снег. До сих пор закроешь глаза – и перед ними тонкая девушка, читающая со сцены Дворца пионеров или входящая в конференц-зал редакции газеты «Магнитогорский рабочий», где собралось городское литобъединение. А откроешь – по-прежнему стройная, но зрелая, умудрённая жизнью женщина, уверенностью движений и суждений, крепостью стихов и ролью наставника для нынешних молодых напоминающая Ахматову или, по меньшей мере, миф о ней. И надо подобрать ключ к её жизни и поэзии, по-русски звучной и формально отнюдь не вычурной, однако требующей встречного духовного сосредоточения и труда… Точка отсчёта Таким ключом увиделось мне одно из стихотворений, включённое в книгу «Иная мера» (2009). «Музыка моя, Иремель тоски…» Строка, что и говорить, не слишком весёлая, если знать, что Иремель – вторая по высоте гора Южного Урала. Тоска в полтора километра по вертикали вполне способна отбить охоту к любому творчеству, тем более жизнеутверждающему. Однако автор смотрит на неё и соседние горы и хребты с самой вершины: …Ах, сметало ж небо к зиме стога Для спасенья наших голодных душ – Иремель, Зюраткуль да Зигальга, Таганай, Нургуш… Караваны лет, череда веков, Гиблой юности золотая скань – Всё к ногам твоим! Чтобы встать легко, Если скажешь «Встань!» Обжигая губы об имена, Не позаришься на чужую ложь. Три глотка спасительных: «Ро-ди-на» – И опять живёшь… Эта точка отсчёта не столько обретена со временем, сколько утверждена и пронесена через него. Так же – не свысока, но свыше – в книге «Теченье донных трав» (2002) поэт взирала на Таганай: «…Там вечность больше всего на стаю китов похожа,// На синюю стаю китов, плывущих навстречу солнцу…» Однако одновременно это возвращение подчёркивает: разовой прогулкой тут не отделаешься, восходить надо снова и снова. И столько же раз спускаться обратно, к подножию, сохраняя в себе обретённый на вершине свет. Эта дорога ненадёжна и полна опасности. Чтобы опереться о воздух и не упасть «В смертельный провал, где чёрные единороги// Смеются и говорят человеческим языком…» («На высоте метели», 2000), нужно особое состояние души. Сам Морфей должен согласиться взять тебя за руку и на всём пути «по глинистой осыпи над водой» читать «Древнее заклинание тьмы и света,// Дающее опору в воздухе для стопы…». И только Бог будет сопровождать тебя, когда, сумев отгадать неведомый смысл, таящийся в той же земной тоске, ты пойдёшь над ней аки посуху, а «из глубины, незримые почти,// Проступят, как прожгут пучины под стопою,// Диковинных существ холодные зрачки…» («Иная мера»). Земля внизу тоже зыбка. Тем более такой она была во второй половине 1980-х, когда свежеиспечённая выпускница Литературного института приехала не в родной Магнитогорск, а в «столичный» Челябинск. Хотя стальное сердце Родины, каковым привыкла именовать себя металлургическая Магнитка, временами тоже откликается живому слову, чуть более разнообразная духовная жизнь областного центра всегда даёт писателю, а тем более поэту шанс на бόльшую востребованность. Так оно было в советские времена – так в конечном итоге случилось и в нынешние. Но в пору, когда служение литературе теряло статус государственной службы, поскольку само прежнее государство рушилось на глазах, этот шанс оказался невеликим и в Челябинске. Сама Ягодинцева убеждена: «Поэзия важна сама по себе не потому, что растёт из биографии, а потому, что она прорастает в биографию и меняет её – то есть работает обратный вектор…» Мысль, стоящая пристального внимания и позволяющая по-новому взглянуть на повороты в судьбах многих поэтов. И всё-таки возможно, что именно от того шаткого времени – чуть более поздний образ Ноева ковчега («На высоте метели»): Во тьме полдневной и полнощной Давно не видит света он, Но рассекает грудью мощной Зеленоватый камень волн. Заносит след солёным снегом, И ровный гул воды глубок, И слабо плачет над ковчегом Искавший землю голубок… Когда «бледный луч пронижет мглу», сходни ударятся о камень и «сыны о жертве захлопочут», кормчий, который впервые «пред этим низким грозным небом… не признал себя рабом», сойдя на «мёртвую скалу», застынет «пред миром тёмным и пустым» без движения. И впрямь непонятно, с чего начинать, когда волны закаменели, а земля и время тоже не имеют ориентиров. Под тёплыми звёздами Первая из книжек Ягодинцевой – «Идущий ночью», изданная в Южно-Уральском книжном издательстве в обвальном 1991 году, полна тревожно-светлого предвкушения. Само её название – от одной из возвышенных сур Корана, переводом которых поэт увлеклась в Литинституте: «…идущий в ночи подобен// Пронизывающей звезде…». Свет этой звезды – дважды небесный: физически и духовно. Он – от снежного огня, до неба взметнувшегося и застывшего над степью: «Поёшь ли, тихо ль говоришь –// Алмазным пламенем горишь!..» От старинной пиалы, которую когда-то расписала рука мастера, искусством узора до сих пор напоминающая, «Как щедро небо наполняет// Земную чашу бытия». От морозного стекла, что в наступающей ночи помогает закончить швейную работу: «В такую ясную погоду// И в темноте ещё светло». От ожидания первенца и ощущения своего родства с плодоносящей по осени в старом саду яблоней, что опять же зимой будет «спать, светло и нежно спать,// Когда дитя своё возьму я на руки». До этого плодородного рубежа лирическая героиня Ягодинцевой ещё могла несколько отстранённо, будто вслед за многими предшественниками посетовать: «Как много света и простора,// Как мало вешнего тепла!» И, выбирая жизненную стезю, представить себя хлебом, водой или яблоком, передаваемым как дар из ладони в ладонь. Теперь же, когда кроватка со спящим ребёнком сделала привычную комнату «чужой и строгой», мир и время надо уже не судить, а просить принять к себе вместе с новорождённым. И тогда они предстают не простором, хотя и светлым, но бесплотным, а ласточкой, лепящей гнездо: …Когда мы с тобою сердца сольём, Участь моя не будет странной: Кусочек глины в гнезде твоём Под крышею вечности неустанной. К боязни «моих неумелых рук,// Души неумелой с её тоскою» здесь добавляется и тревога за любимого, когда на заполнявшем его взгляд предрассветном небе вдруг проступает «злая звезда», а пробивавшийся к берегу острогрудый кораблик («…Я машу рукой:// Этот берег – твой!..») исчезает за речными волнами. В той же душе по-прежнему живы «Желанье властвовать и страсть// К движению и созиданью:// Дымящиеся глыбы класть// В основу мирозданья…», и на закате до появления первых звёзд «Алмазная твердыня мира// Податлива, как тёплый воск», а «Звенящий воздух мягко тает// И исчезает под рукой…» Но перед лицом ожесточающейся земной жизни пробивается: «…И страшно на небо взглянуть,// И землю видеть безотрадно…» В зимней ночи по-прежнему сходятся, «словно два льняных полотна», белые небо и земля, однако ощущение меняется: «…Кто-то безвестный уносит жизнь// Туда, где сливаются снег и снег…» Хотя «от белых лент, от сонных рек» всё так же «сквозит холодное сиянье», обращённая к Всевышнему мольба – о насущном: «Пошли мне, Господи, ночлег –// Меня измучили скитанья!..» И всё-таки, несмотря на тяжёлый дурман и пыль вокруг, когда «ивы над зелёною водою// Сутулятся и лёгкий свет прядут…», силы возвращаются: «Вот так душа смиряется с бедою// И понимает только тяжкий труд…» Ещё один источник этих сил – пример матери, которой «кажется: бросишь работу –// И время затянется льдом…» И тот же сад, куда героиня снова и снова прибегает во сне за яблоками. И ребёнок, уже начинающий вслушиваться в звуки родительской речи и сам производить «первоназвания бытия». И собственное творчество, для которого после подёнщины остаётся только ночь: …И сердце ждёт полночного труда: И звук, и свет – всё обернется вестью. Какие тайны, образы, созвездья Плывут в мои пустые невода!.. Это уже из авторского раздела Ягодинцевой «Ущелье ведьм» в коллективном сборнике «Майский дождь», который был сдан в набор всего лишь через месяц после «Идущего в ночи» и увидел свет в том же 1991 году. Несмотря на неизбежные повторы, а также благодаря уникальным стихам в нём возникают и особые, дополнительные смысловые и эмоциональные нюансы. К примеру, там Москва представлялась «болотной птицей, вещуньей», чей «голос надрывный» то ли рвётся к высокой недостижимой звезде, то ли умоляет её опуститься пониже. Здесь столь же двойственное «соединенье тёмных высей и светлых далей октября» вспоминается с элегической ностальгией как ещё один из источников столь необходимого света. Однако этот свет опять же оказывается холодным: И нам только небо осталось – Обетованный край. Осенний синий парус, Ладья, плывущая в рай… На фоне этого неба и как антипод ему земля подчас предстает средоточием безумия и пыльных песков, сквозь которые «…жизнь моя протянута,// Как острый луч тоски…» Хотя в такие минуты, «Когда позор, тоска, бессилье// Отравят грудь…», автор снова вспоминает о небе: «Для тайных странствий по России// Есть Млечный путь…» И пускай сама страна пока что представляется ей, скорее, безличным, невочеловеченным пространством, поэт ощущает: «…Если о России// Не говорить, не думать, не дышать,// И глину не месить лаптями, сапогами,// Колесами поющих жалобно телег –// Мы канем в пустоту…» Саму эту мысль, как и форму её выражения, иначе, нежели традиционной, не назовёшь, хотя их истоки можно увидеть не только в принципиальной приверженности классической русской поэтической традиции, но и явном нежелании спешно откликаться на злобу дня. Разве что в коротком «Всё ветер, ветер…// Окна дребезжат…» можно увидеть парафраз уже подзабытой ныне тогдашней метафоры о перестройке как свежем ветре перемен. Некоторые заземляющие образный текст реалии появляются лишь в следующем авторском сборнике – «Перед небом», который вышел в 1992 году. Однако и эти «заземления» оказываются в большинстве крылатыми. …Я выросла здесь, среди горьких дымов, В слепых коммуналках убогих домов, И звонкие сказки о царстве огня Любви и надежде учили меня… Мифологическая ипостась родной Магнитки вошла в плоть и кровь большинства её аборигенов с молоком матери и дымом металлургического комбината. Характерную для того времени попытку отделить зёрна от плевел можно увидеть и в других строках о Магнитогорске: «…маленький город// Разрезанный чёрной рекой// На дымный и огненный грохот// И утлый житейский покой…» Но, несмотря на то, что «извечной российской мечты» в этом городе воплотилось мало, автор принимает его «простые, родные черты» как милость. Однако гораздо чаще малая родина предстает в стихах Ягодинцевой тем же яблоневым садом, где с крыльца её зовут родители и где утомлённая мама, засыпая, замечает страницу вишнёвым листком. А в «прозрачной стае почти незнакомых небес» отражается сад другой, где садовник так же точно прикорнул над книгой: …В нём листья померкли И яблоки мягко блестят. Как тёплые звёзды, С ветвей улетают плоды, Небесные вёрсты Считая среди пустоты… У неё даже старушки, которые, как это было свойственно рубежу 1990-х, «…раскупают ситцы,// И макароны, и пшено…», пересчитав измятые рубли, «…снимаются, как стая,// И ввысь над городом летят…». Среди гудков, которые «надрывно и устало» поют, как дикие звери, «в тоскливом череве металла», поэт в наступающей ночи различает дальний «младенческий безвестный зов» то ли заплутавшей души или птицы, то ли вновь засветившейся звезды и прислушивается к нему. И перед ликом неприветливого земного мира в пору, «Когда в пустом саду сутулится жасмин,// Вдыхая холода космических глубин…», её глазам грозит не слепота, а «безумная тоска по тёмным небесам». В коих опять же звезда сулит мимолётному всаднику, спросившему дорогу, долгожданный очаг, а ей, вынесшей воды и ржаного хлеба – дорогу. Впрочем, те же звёзды могут быть не только тёплыми, но и грозными и рождать «в младенческой душе… отторженье// Добра от правды, правды от любви…» Тогда-то и приходит на помощь первооснова иной жизни – «Материя богов, связующее Слово,// Оно творит миры из праха бытия…». Только вот цена у «благозвучья наших строчек» куда как велика, но знают об этом лишь те немногие, кто решается уплатить её за возможность испытать настоящее счастье творчества – как, например, только что (в то время) ушедшая Нина Кондратковская, которой, судя по буквам «Н.К.», посвящено одно из стихотворений. Время безжалостно: «Ты ничего не в силах изменить,// Перевернув иссякнувшую чашу» песочных часов, ни в жизни одного человека, ни в судьбе «круглых русских площадей», брусчатка которых полита «свинцовыми слезами». И сколько его ни заклинай «Шёлком, шёпотом, сёребром,// Небом северным…», хотя «мы не умерли и не смирились», в гибнущем оставленном граде, над которым на закате расцветает пожар, подобный амариллису, сгорят «наши мёртвые книги,// наши дерзкие черновики». И всё же так хочется знать, «…сквозь вековое забытьё// На имя тихое моё// Какая вскинется стихия…». Тем более что, несмотря на необходимость воевать и стариться, мир состоит не только из солдат и стариков, извечный круг жизни продолжается, и «сладко томиться надеждой,// Что жизнь повторится опять,// и снова над родиной снежной// звезде равнодушной сиять…» Именно снежной, ибо зима остаётся естественным состоянием отчизны: «…перед небесною купелью// Ты возьмёшь безропотно с собой// Зимнее российское веселье// Снега, солнца, глуби голубой…» Оставленный град В новой книге, название которой дал привлекающий своим диковинным названием и приданной ему символикой цветок – «Амариллис» (1997), поэт вновь обращается к надмирному пространству, космосу, расширяя его, но одновременно приводя в живое движение: «Мрак на небо тащат волоком –// Медленно и тяжело…» В этом небе, которое воздало огнём и влагой, торжеством и тоской и, вероятно, оттого опустело и прояснилось, вновь появляются «неведомые звёзды». Однако теперь оно не только являет земному миру зеркальный идеал, но и составляет с этим миром единое целое: «…Слишком многое в небе сгорело,// Слишком многое в землю ушло…» – такой силы гроза сотрясла авторское мироздание. После такой не приносящей облегчения грозы плоть и душа по-прежнему пьют «это небо – всепрощенье наше», но уже «как ледяную воду из ковша». И, хотя телесное отнюдь не умерщвлено («Привыкай к земным чертам,// К зеркалам идти с улыбкой…»), главным становится путь души, которая «Во тьме случайного ночлега// В глухом предчувствии беды// …у Бога просит снега,// Чтоб он засыпал все следы…» Суета преступившего черту и обезумевшего града – не духовного, а осязаемого, в котором «Змеиным холодом разлуки// Сквозит в раскрытое окно», не приносит забвения. И только покажется, что «…Всё отболело, минуло,// Зима белым-бела…», как пустота в груди напоминает: «…Как будто сердце вынула// И нищим отдала…» Отпускает разве что в горах, где можно пить «Из каменных ладоней гор,// Как из любимых рук…» Но даже там пронзает: «Вот так, наверно, пьют, когда// Из Леты пьют…» Впрочем, даже такая надёжная, казалось бы, река не даёт успокоиться: «…Летейские воды черны и чисты,// Но мне не остудят чела…» И, хотя «…Покинувшим пепелище// Обратной дороги нет» и «…кому была обещана –// Пусть забудет обо мне…», с губ вдогонку так и просится невысказанный упрёк: «Как же ты покидаешь// То, что не уберёг?» Ибо «выше всяких сил» помнить о том, «как серебристо осыпалась пыльца с тяжёлых крыл» бабочки, которая стучалась в окно в оставшуюся позади счастливую ночь. Только ночью теперь ощущение счастья – творческого – и возвращается: …Ночь опустела. Ни звука. Тьма, как бумага, груба, Тёплую смуглую руку Тайна снимает со лба… Однако подчас и ночная тьма не спасает от отчаяния: …И вижу я, как буквы проступают, И направляю горькое стило: Мой хлеб горчит, моя вода пылает, Моя рука утратила тепло… О плотском на этом фоне – только мимоходом: «…Да, я живу темно и скупо,// О хлебе плачу и молюсь…». Или: «Ангел бедности, ангел заботы,// Как ты пристально смотришь за мной!..» За скудостью, смятением и страхом даже превышающая человеческие мерки большая Родина становится смутной, как сновидение, или просто утопает во мраке. Сколько пройдено – а жизнь ещё длинна. Всюду родина – да родина темна. Сколько ждать еще неведомых вестей, Успокаивая плачущих детей? Надежда на высоту остаётся, хотя «меж радостью неба и жизнью моей» протекает пламя. Однако то же самое небо, когда ему нечего отражать, уподобляется глухому омуту или «гудит, как броня», в ответ на обращённые к нему моления. И, обнаруживая, что «На крылышках моих сандалий –// Земная тёплая роса…», героиня спохватывается: …Земля моя, прости мне забытьё, Почти побег, почти уход украдкой! Всегда со мной дыхание твоё И камешек под левою лопаткой… Считая труд любви неблагодарным и жестоким, но не напрасным, лирическая героиня, заплатившая любовью за гордость, теперь готова за любовь заплатить всей жизнью. Больше нечем – разве что словом, «оправленным в тёмный хрусталь», или «печалью земной». И пусть когда-то «наступит священный возраст» и придётся выбирать, «В траве или синих звёздах// Желаннее умирать», пусть «…наступает как проклятье// Необратимый тайный час,// Когда учителя и братья// Уже не понимают нас…», а дорога сквозь ночную пургу не даёт однозначного ответа, удастся ли дойти «туда, где мерцает мятущийся свет», лишь новое соединение земли и неба обещает исполнение смиренной молитвы: «Дай мне, Господи, петь, а не плакать// На дорогах Твоих…» Дом у края Ойкумены Похоже, молитва была услышана, ибо в начале нового XXI века у Ягодинцевой один за другим вышли сразу три сборника – уже упомянутые «На высоте метели» и «Теченье донных трав», а также «Тихие имена» (2004). На условном перевале между сто- и тысячелетиями вряд ли многие из земных жителей бесповоротно порвали с прежними переживаниями. Вот и её героиня, ощущая, как «золотая мякоть» времени «набивается в трещину меж мирами» и веками, продолжала вкушать пропахший вишнёвым вареньем август и свежие спелые яблоки и вспоминать о недолгом счастье, оставшемся позади: «За пустырём, за жёлтым донником,// За клёнами, за ивами// Ночь воздымается над домиком,// Где мы посмели быть счастливыми» и «…пили кагор пополам с дождём», мешая вино и воду, как вину и беду. Москва к этому времени виделась по-прежнему красивой, но уже торговкой, что прельщает прохожих дешёвыми леденцами, высвобождающими светлую память: «…Все поцелуи – на Тверском,// Все расставанья – у Страстного…» Новая встреча виделась лишь в отдалённой временем небесной ипостаси: «Мы встретимся в небе над Москвой// Тысячу лет спустя.// Грозовая туча будет с тобой,// Со мной – дитя…» И всё-таки это сохранение внутренней памяти и связи подсказывает: хотя «даты рожденья стёрты ладонями океана…, оглядываться нельзя – не все мосты сожжены…» Иначе можно опять утратить с таким трудом вновь обретённое неразрывное и в то же время неслиянное единство земли и неба, тела и души, что, воссоединяясь, вновь оживают для творчества: …Омывается пыль, растворяется боль и измена, И душа возвращается в тело из вечного плена: Проплывает по жилам, как снег проплывает по рекам, Вырывается в свет, благодарная дрогнувшим векам, Проникает в уста золотистой пыльцой винограда, Перед небом чиста и земному младенчеству рада... Окружающий мир становится всё более грубым, однако героиня теперь куда меньше ранится об него, сознавая, «Что жизнь – всего лишь горькое лекарство// От смерти, и не более того…» А некоторое время спустя приходит и совсем другая интонация: «О, эта жизнь захватывает дух// В неумолимый плен,// Не хлеб, но лёгкий тополиный пух// Даря взамен!..» Защитой становится не только опыт потерь, но и умение отыскивать одухотворение в самой округе: «…Я ль трепетала листвою в потоке ветвей?// Я ли была затаившей дыханье травою?// С гулким трезвоном сбиваются в стайку трамваи,// Больше похожие на заводных снегирей…» Весенний город «…прячет влюблённых, как мальчик птенцов на груди,// Под зелёной фланелью неловко рукой прижимая…», и в нём даже воздух оказывается если не осязаемым, то видимым: «…Влажной тканью оберни пустоту –// Проступает обнажённая плоть…» А когда «собираются мерсы на Пасху в шикарный кабак», поэт замечает, что их владельцы «Словно Божии птицы слетаются к щедрой руке:// Под блестящей бронёю живая душа налегке», и ослепительная пустота в Господнем гробу уравнивает всех – и нищих, и то ли бандитов, то ли просто деляг: «…Все мы будем одним – все мы будем рассветным огнём,// Даже если сейчас ничего и не знаем о нём…» Тот же мало приспособленный для тонкого чувства город вдруг может порадовать одной из маленьких кафешек, которые «…хороши и тем,// Что возникают и исчезают враз –// Словно узорный фонарик меж хмурых стен// Вспыхнул, обрадовал – и через миг погас…». Даже возле, как водится, по-чёрному пьющей заводской общаги по воле Всевышнего ива «как люстра сияет усталому небу предместья». И за горькую правоту характеристики отечественного житья-бытья («…Что не продано – пропито,// Что не пропито – брошено…») авторское альтер эго не укоряет Родину, а просит у неё прощения. Такое состояние души даже в крайние зимние холода, когда «воздух бьётся, стекленея», позволяет ощущать, как «…сонным полнится теплом// Мой дом у края Ойкумены…» А когда между небом и землёй вторую неделю метёт снег, внутренняя боль словно растворяется в заоконной белой пелене, так что «Весна, от неба землю отделя,// Увидит: это новая земля…» Именно трудная жизнь под небом, приучающая относиться к его малому вниманию как великой милости, даёт возможность восхождения к нему: «Милый мой, кто на земле не жил –// Разве на небе теперь спасётся?» Но, хотя это восклицание весьма напоминает христианские постулаты, чтобы «проснуться в май, как вишнёвая ветка», героине приходится забыть смирение и страх. И когда калёный колокольный звон будит пустоту, и между побирушками на храмовой паперти вдруг видится босая девочка, несущая из переполненного храма янтарную свечу, замирающее сердце почему-то удерживает от торопливого отклика. Особым, однако, для поэта становится Рождество – и среди дремучих крутолобых гор в посёлке Сыростан, куда, кажется, в эту ночь идёт весь мировой снег, и во встающей на молитву заснеженной Москве, в которой поэт опять ощущает свою бесприютность, но которую вновь любит – без памяти. И тут же – снова о Родине, где «с покорных… всегда берут втройне –// В миру и на войне, в воде или в огне….», но где канва событий ткётся не на земле, а в холодной выси «Из наших молитв и чаяний – верных нитей,// Из наших наивных песен и смутных снов…» И именно эта канва становится тем самым покровом, который раскрывает над страной Богородица. Чувствуя и сознавая это, и сам со смирением принимаешь опять же вполне христианский вывод о том, что «…надо жить не хлебом и не словом,// А запахом лесов – берёзовым, сосновым,// Беседовать с водой, скитаться с облаками// И грозы принимать раскрытыми руками…» Но с одним уточнением: именно в России, которая «страшна, как страшен сон из детства» и где «Мы рождены в луну, как в зеркало, глядеться,// И узнавать черты, и вчитываться в знаки,// И сердце доверять ворованной бумаге…» И пусть «Великая страна, юдоль твоя земная,// Скитается в веках, сама себя не зная...», поэт вновь повторяет – очевидно, прежде всего для себя: «В России надо жить!» А какое именно слово нуждается в смысловом ударении, решать читателю. Удерживать эту максиму трудно. Иной раз кажется, что даже когда «минет век, отстоится вино» и прошедшая «через землю и камень» кровь превратится в живительную влагу, душа, «Озарённая высшим прощеньем,// Никогда – ни мечтою, ни тенью –// Не захочет вернуться назад…» И край терпения уже близок: «Сквозь последнее ветхое небо// Неземная твердыня видна…» Поэт способна, не отрываясь, смотреть и на «теченье донных трав, подобное дыханью» и не отпускающее взор так долго, что «опомнишься – зима. Оглянешься – пустыня». И всё-таки куда больше её снова и снова притягивает небо, которое «повсюду окружает нас». Его «могучие шторма» показывают земному человеку, что все его «радостные мысли –// Всего лишь тьма, слепая тьма…» И в то же время: «Его высокие огни// Зовут: не в землю, в небо канем!// О, не за хлебом, не за камнем –// За небом руку протяни!» У Ягодинцевой даже город, где «…Свирепые джипы вонзают клыки// В горячую, спелую мякоть проспекта…», походит на ладонь, протянутую в небеса – правда, пустую, и следы от ладошек, протаявшие на седых от инея трамвайных стёклах, «затянуло зеркальной тьмой». Но человеческие трудолюбивые руки, вытянутые вверх, полощут над светлыми березняками льняные облака, а то и даже пасут их «как тяжёлое млечное стадо» накануне дымной и горькой листопадной поры. Именно этому небу, что весною «стелет дорогу стопам», поэт передоверяет «то, что не под силу». По этому небу течёт речка загадочной мандариновой смолки, в нём исчезает летящая птица, «…Как будто ей одной дано// Летать из мира в мир без правил,// И для неё Господь оставил// Всегда раскрытое окно…» И горбатая старинная улочка, круто идущая в гору, оказывается небостоком, и ты тяжело поднимаешься вверх против солнечного течения. Когда в поэте плывёт по жилам и медленно зреет, «как в яблоке солнце, как в чёрном семечке – зелёная высота», новая жизнь, это небо, смеясь, касается собственного «округлого, тёплого живота». Если же одолевает гордыня – небо отдаляется, отчаливает. Тогда единственное, что остаётся – упасть на колени и, осязая землю, сознавать, что её «горькая и шершавая плоть – единственное, что настоящее». И в то же время сомневаться в этом. В годы всеобщей болтовни небо узнаёт поэта по молчанию. Но ещё чаще оно простирается над туманными горами всё того же Таганая. Эти древние складчатые горы то образуют каменные чаши с зелёным вином вечности, которые боязно поднести к губам, то поднимают тебя с колен, пробуждая ведущее в облака волнение, то стекают вниз «по каменным ручьям, по грозным гулким рекам», образуя «тома тяжёлых скал,// Как будто свой архив Господь-библиотекарь,// Спеша, перемешал…» Вместе с тобой в этом гигантском читальном зале листает время и наугад раскрывает его уже знакомая пёстрая бабочка – и только её трепетание ты и можешь унести отсюда в памяти «на перекрестья равнинных твоих дорог». В разлёте тонких крыл «прочитывает буквы бытия» и охотящийся тигр, перенесённый фантазией автора на Южный Урал то ли с Амура, то ли из Бенгалии – а бабочка потом «живёт ещё какой-то час,// Ещё какой-то век своей свободы,// Со всей великой библией Природы// Одною этой встречею сочтясь…» У библиотекаря здесь книги не спрашивают – предлагают их ему вместе с собой: «Прими меня в ладони, Господи// Как путник влагу из реки…» Вручают с покаянием за собственную нерадивость и благодарностью за щедрость, поскольку в сотворённом им мире даже малая «…капелька дрожит на ветке,// Как бы на кончике пера...», и именно Он – «Последовательность любых событий,// Источник всех растраченных времён…», из которых не хочется утерять ни единой капли света, рассеявшегося по стихотворениям. Света, волну которого «с любого этажа земного ада» и из любой глубины свободно ловит «приёмничек, настроенный как надо». Но здесь же – и порыв соперничества, сотворчества: Лежи в траве, читай по звёздам И слушай, как звенит вода. Но этот мир ещё не создан, Он стоит дерзкого труда… Иллюзий нет: «…истина проста,// Она живёт без слов и нас с тобой не ищет…» и «двух одиноких нищих,// Читающих стихи с бумажного листа» ей утешить нечем. «Всё будет хорошо, всё скажется случайно –// И всё равно сгорит в вечернюю зарю…», и книга, которую лелеешь и в которую вкладываешь всё своё богатство, станет пламенем, а ты – глиной. Но всё равно есть надежда – в том числе на новое возрождение, когда у Бога закончатся буквы и прежние стихи ему потребуются вновь. И той же книге поэт желает: «Возьми, что мне не суждено:// Живи легко и будь любимой…» А для себя у Господа просит: «…Сотвори меня заново женщиной, Боже,// Затвори всемогущей ладонью уста:// Я закрою глаза и почувствую кожей,// Как небесная влага тепла и чиста!..» И даже последний поход в любимые горы не становится последним. Ведь «Обычно в такую дорогу берут детей,// Словно передавая вечную страсть.// Дабы, живя в зеленых долинах, те// Знали: можно взлететь, а можно – упасть…» И когда наступает пора «вернуться в город и жить как все…, дети кричат и смеются: отныне в них// Бьёт крыльями высота…» Охота на химер Писать о текстах не чисто литературных, а весьма рациональных в обзоре поэзии вроде бы не пристало. Но как отделишь от стихового творчества Ягодинцевой три плотных брошюры под общим названием «Поэтика», что стали плодом её многолетних размышлений о сути литературного труда? Вначале на свет появился курс лекций о философии поэтического творчества «Модели образного мышления» (2003), затем – речевой практикум для студий и курсов литературного мастерства «Двенадцать тайн» (2005). В полном соответствии с обозначенным жанром книги адресованы прежде всего преподавателям и студентам творческих вузов, руководителям и участникам литературных объединений. «Модели» разделены на пять лекций, «Тайны» – на 300 уроков, способствующих, как заявлено в аннотации, «последовательному освоению практических возможностей русской речи и созданию действенных речевых формул». И все-таки «Поэтика» – куда больше, чем просто учебник и пособие. «Художественное творчество – сфера не только целостного мышления, но и целостного бытия, истоки которого – в космической, духовной природе человека», – уверена Ягодинцева. Обращаясь к сознанию, разделяя приставку и корень самого этого слова дефисом – «со-знание» – и тем самым вновь проявляя взаимосвязи, в которые неизбежно встроен любой, даже самый одинокий мыслящий человек (аналогично – «со-бытие»), автор ведет речь именно об экзистенциальных, бытийных вещах и явлениях. А потому потенциальная аудитория «Поэтики» охватывает всех, кто так или иначе связан с литературным – да и только ли? – творчеством, задумывается о собственном предназначении и пытается ощутить и сохранить в себе цельную картину мироздания. В этом смысле, несмотря на свой, казалось бы, исключительно прикладной характер, «Тайны» выступают абсолютно естественным продолжением «Моделей». Ведь именно язык выявляет и создает эту картину, именно он показывает, насколько со-ответствует (или нет) мирозданию душа говорящего. Исходное со-ответствие знаков языка внутреннему и внешнему со-стояниям человека, по мысли автора, и восстанавливают практические занятия, предлагаемые во второй книге «Поэтики», следуя от точного подбора знаков к построению, а затем и преобразованию основных смысловых связей. Вполне практический – и в то же время столь же бытийный смысл – несёт в себе и третья книга «Поэтики» под названием «Принципы безопасности творческого развития» (2008). Во-первых, как и всякая другая профессия, литературный труд просто обязан иметь соответствующие правила. Во-вторых… Далеко не каждый из тех, кто примеривает на себя одежды стихотворца, догадывается об истинной величине списка упавших в эту бездну. Далеко не каждый хоть на миг задумывается о цене, которую приходится платить за мимолётную эйфорию от успешного соединения мысли и образа, слова и музыки или просто ощущения причастности к сонму «избранных», пробующих соперничать со Всевышним. Напротив – трагическая посмертная слава немногих, заслоняя столь же трагическую безвестность остальных, скорее, лишь добавляет этим ощущениям пряности. Так что подчас не только обывателю, но и самому пишущему кажется, что настоящим поэтом можно считать лишь одинокого, как минимум пьющего, гулящего и в итоге наложившего на себя руки неврастеника. Ягодинцева таких не то чтобы не жалует, а самое большее жалеет. Уж очень много за время работы в различных литературных студиях и Челябинской государственной академии культуры и искусств прошло перед её глазами талантов, давших изрядную пищу для размышлений о технике безопасности. Вводить должности литературных прорабов и затевать специальные инструктажи и журналы для соответствующих подписей, однако, автор ни в коем случае не призывает – утопающие по-прежнему вольны распоряжаться собой как угодно. Но при этом могут осмысленно выбирать между Космосом и Хаосом, гармонической цельностью мироздания и его распадом, созиданием и энтропией и, соответственно, подчинённой и автономной моделями самоопределения. По мнению Ягодинцевой, именно первая модель, отнюдь не исключающая самостояния личности, обеспечивает более устойчивое, долгосрочное и при этом вполне творческое бытие. Для неё и предлагаются те самые принципы, которые позволяют художнику, постоянно связанному с Универсумом, собирающему и отдающему внешнюю и внутреннюю энергию, выстроить систему защиты от саморазрушения, миновать все ловушки и с честь выйти из всех возможных конфликтов, что ожидают на этом пути и обозначены автором. Подобно «Моделям», «Принципы» также разделены на лекции, однако по-настоящему могут быть восприняты лишь в неторопливом, вдумчивом (издатель даже закладку специальную в каждом экземпляре предусмотрел) диалоге. Завершая серию, автор не подытоживает разговор, а выводит его на новый уровень, делая книгу интересной для всех, кто стремится не разрушать, а создавать себя и окружающий мир, и не останавливаться на достигнутом. В 2006 году те же мысли легли в основу как публицистических выступлений – например, статьи «Мифы, которые нас убивают», опубликованной в журнале «Урал», так и кандидатской диссертации «Русская поэтическая культура XX – начала XXI века: сохранение целостности личности человека». А в 2008-м родились «Охотники на химер». Разворачивая метафору, известную многим как подпись под одним из знаменитых офортов Гойи, автор предлагает конкретному адресату отправляемого с мгновенной воздушной почтой послания, а вместе с ним и читателю увидеть, как рождённые сном разума «твари мнут траву// в Центральном парке у фонтана». Картина впечатляет: «Асфальт продавлен и раскрошен…// Их перепончатые пальцы// Сквозь прутья частые торчат// Их глотки клёкотом и рёвом// Взрывают ночь. Вздымают дым…» Их сердца или нечто вроде того – «Котёл углей… Оттуда дым и смрад// Когда они друг с другом говорят…» А вместо крови у них – холодная грязь. Ладно бы они шастали только по ночам. Нет же – и по утрам, когда здесь появляются дети, «…камень сохраняет смертный холод// И продолжает бредить наяву…» Но пуще того – оказывается, что адресат, он же спутник поэта, этими химерами очарован и как минимум прежде им поклонялся. Это вскормленные им, впитавшие его бессилие и страх чудовища «прошествуют садовою тропой// На затяжной кровавый водопой». И спустить с тетивы светящийся луч как серебряную стрелу, дождавшись паузы меж двумя ударами сердца, оказывается способен только сам поэт – и делает это без колебаний. Удел же его напарника – «видеть, как вопят и кружат// Химеры снов, чудовища глубин…» Наличие конкретного адресата, обозначенного инициалами, и резких эпитетов – «Подкидыш, пасынок, паскуда!» – конечно же, проявляет, что у этого семичастного стихотворения есть глубоко персональный аспект. Однако пророчество – «…И ты один// Пройдёшь сквозь ночь, и жизнь, и поле брани,// И тьма дымиться будет в каждой ране// Души твоей…» – сводит счёт отнюдь не только личный. Для Ягодинцевой вся поэзия – не езда в незнаемое и не добыча радия (хотя, возможно, и они тоже), а охота на химер. И зоркая, подчас безжалостная подобно хирургу амазонка – одна из ипостасей этого поэта. Мера всех вещей Для такой зоркости и уверенности необходима выверенная собственной жизнью, выстраданная система координат. И если ранее, в предыдущих книгах Ягодинцева ясно вычертила вертикальную ось, то в этапной «Иной мере» недвусмысленно обозначила центр и одновременно сферу, тело этой системы. В средоточье города и мира На туберкулёзном сквозняке Что тебя спасло и сохранило, Как ребёнок – пёрышко в руке?.. Разве голос? – где ему на клирос! Разве сердце? – купят, не соврут! Но темница тёплая раскрылась И открылось тайное вокруг: Что ж, взлетай легко и неумело, Где бессчётно в землю полегли… Родина – таинственная мера Боли и любви. На этой родине «звонарь раскачивает сон», беззвучно взывая ко Всевышнему, а «наяву гуляют ордами,// Глумясь над спящими и мёртвыми…» Последняя метель напоминает погибельную сечу, в которой подчистую ложится засадный снежный полк, а непогода – приход отряда батьки Махно, оборачивающийся отнюдь не шуточным расстрелом. На этой родине «…Ангелы на покосе// Точат свои лучи…// Песенок не поют,// Мёда на хлеб не мажут.// Лезвия отобьют –// То-то травы поляжет!» И та же намоленная трава, расстилаемая во храме на Троицу, напоминает: «Трава травой живём, не узнаны,// Удерживаемые едва// Зеленокровного родства// Душеспасительными узами…». Здесь снова и снова «…кто-то падает крестом// И осеняет поле// На три открытых стороны:// России, вечности, войны…» И матери проводят жизнь «в нищете безвыходной и жалкой,// В неизбывном страхе за детей» и молитве к Богоматери, чей потемневший лик по-прежнему взирает «с холодной лаковой доски». И сам себя ловишь на доселе запретной, а теперь вылезающей из-под спуда мыслишке, и понимаешь, что деваться с подводной лодки некуда: Что сердце слабое? Трепещет Надеждой перемены мест? Ты эмигрант, ты перебежчик, Невозвращенец и мертвец. Твой век не вышел из окопа, Твой год уже полёг костьми. Твой час настал – но неохота В сырую землю, чёрт возьми! И вот стоишь перед таможней С нелепой ношей за спиной: Со всей великой, невозможной, Смертельно вечною страной… На брошенной в белый сумрак зимней дороге, в не сулящей добра тишине, над которой тонко «Трепещет русый волосок// Луча залётного, рассветного», только и остаётся, что молить Всевышнего: «Помилосердствуй же! И впредь,// Где горя горького напластано,// Не дай соблазна умереть,// Не допусти соблазна властвовать…» Но здесь даже сухая серая полынь, «нестерпимо горько» звенящая на обочине той же дороги, передаёт тебе дыхание жизни. И понятно, что «до бела снега догорать» негде, кроме как в России – конкретно во Владимире, что навеял эти строки. И когда, прикрыв глаза от жгучей боли, рассыпаешь хлебные крошки – «кто-то в шорохе крыл» подбирает их все до единой. Здесь неосязаемый астрал оборачивается полем, «куда устремляются астры», а в огромных сугробах можно стоять в полный рост, задрав голову к бесчисленным звёздам. Весёлый и разгневанный грозовой июль оказывается самой любовью, «…и оправданья нет,// Когда проходит свет между землёй и небом,// Молниеносный свет, холодный чистый свет…» Собственную дочь здесь можно наставлять, что юноша, в котором воплотится её девичья мечта, «так легко откликнется тебе,// Что ты себя не угадаешь даже…» И будущий урожай начинается уже ранней весной, когда сначала поспевает воздух, а потом в сонном августе «Как воздух, яблоки висят,// Тебя дыханием касаясь…» Здесь приходят неожиданные и в то же время долгожданные гости: «Откуда ты знаешь, где я живу сейчас,// Как жду я этого сна, не смыкая глаз?// Когда ты прильнёшь устами к моим губам –// Я снова проснусь, а ты останешься там…» И огонь, оказывается, не уничтожает написанное, а внимательно читает его, «Прожигая привычную тьму,// Рассыпая на искорки слово…» Стихи здесь выдыхает сам тёплый воздух, заточённый на скучной окраине, и сама эта окраина звучит окариной, способной извлекать из себя незатейливую, а всё-таки мелодию. Не только нарастающий шум листвы предстаёт взволнованным ошеломляющим монологом, но «на всех немыслимых ветрах» распускаются полотна речи: «Спасти, утешить, оберечь,// Дать мужества на ополченье…// И небо – речь, и поле – речь,// И рек студёные реченья…» Первоначальное желание высказать неизъяснимое – например, описать «…Горы вдали, и облако над горами,// Словно платок, безнадёжно прижатый к ране…» – оборачивается жаждой речи, которая «настигает лавой,// Славой кромешной и оттепелью кровавой,// Зверем, молча кладущим лапы на плечи,// Властно зрачки сужающим…» Что поначалу с лёгкостью вышептывается и щебечется «на птичьем языке, на лиственном наречье», воспринимается как игра в имена – ещё не слова. Настоящие слова жестоки, они «придут потом. Придут – и отрекутся.// И нас научат лгать. И отрекутся вновь…» Вместе с такими словами приходит горькое видение: «…Ты знаешь всё. Раскрыты небеса,// Как том стихов, но смятые страницы// Сияют так, что прочитать нельзя,// И силятся вздохнуть и распрямиться…» К самому горлу подступает понимание, что «мы только повод для стихов…» и главный страх в жизни настоящего стихотворца – снова не услышать тихий зов поэзии «Побудь со мной…» Только в ответ на этот зов мастерски раскручивается новой спиралью, казалось бы, давно неживая метафора: «Июль похолодел: на грозовых фронтах// Стеной блестят мечи, роями ходят стрелы.// Мы вечно на войне. Мы часто на щитах.// Все смерти наизусть привычно помнит тело…» Смысл этой битвы подчёркивает необязательная, на первый взгляд, запятая: «Любимая, земля, прости меня, не плачь,// Да будет кровь моя – вода твоя живая…» Даже тоска оборачивается тогда живой, и та же земля или заливающая сады весна пьёт её, словно молоко. Андрей РАСТОРГУЕВ. 01,06.2011 |
