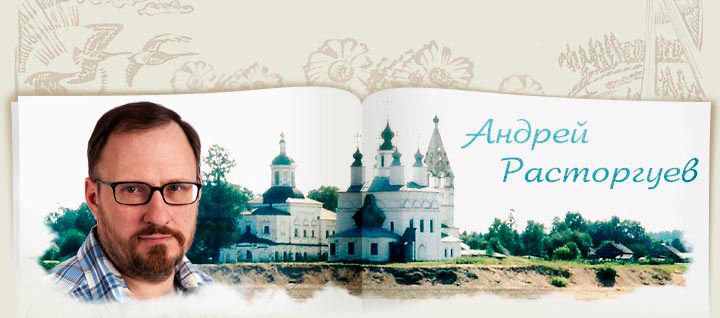
Путь воина (о поэзии Екатерины Полянской)  УТЬ ВОИНА УТЬ ВОИНАЖизнь и поэзия Екатерины Полянской полны особого женского мужества «Воин в поле одинокий» – под таким заголовком вышла в 2012 году в московском издательстве «Время» стихотворная книга петербурженки Екатерины Полянской [Полянская Е. Воин в поле одинокий. Стихотворения. – М.: Время, 2012. – 256 с.]. Звучит, на первый взгляд, вполне элегично, как и строфы, которые пожертвовали эту строчку для обложки: …Привкус горечи и соли – Одинокий воин в поле За судьбой своей спешит… Воин в поле одинокий, Дымный морок, млечный след… Гаснут сумерки и сроки, В омут времени глубокий Льёт звезда полынный свет. Кому-то приличествующая элегии сентиментальная грусть, однако, может показаться чересчур возвышенной. Да и вынесенная на обложку фотография автора с возложенной на лоб тонкопалой десницей явно претендует на философичность. Так что заражённое постмодернистским, а то и просто обыденным цинизмом восприятие тут же подсовывает ироничный ассоциативный противовес: ишь ты, Аника-воин… Но руки тянутся к клавиатуре, и бездонный интернет тут же пополняет усечённый временем персональный культурный багаж. Согласно народной памяти, Аника и вправду брал на себя чересчур много, однако в поле не с кем-нибудь, а со Смертью самой пытался спорить. И стих духовный, в эту память вошедший, ведёт своё начало от «Повести о прении живота со смертью», чья русская история исчисляет, по меньшей мере, пять веков. Вот и стихи Полянской о том же самом вечном состязании. Живое тепло Если отсчитывать жизнь поэта с его первой книги, Полянскую вполне можно назвать тинейджером. Однако в 1998-м, когда послышались её «Бубенцы», земное присутствие Екатерины пошло уже на четвёртый десяток лет. И в те поры – тем более врач-хирург – она уже могла от лица медлящего на берегу Леты путника беседовать с человеколюбивым, но вполне ответственно выполняющим свою работу Хароном. И лодка её печали и любви плыла по Крюкову каналу «сквозь призрачную лёгкость колокольни, // Сквозь тень мостов, // Сквозь триста лет глухой саднящей боли // И морок снов… // Сквозь едкий дым, сквозь память коммуналок…». И она явственно ощущала, что уменьшающимся в числе петербургским ангелам «с каждым годом труднее // В наступающей мгле свой возлюбленный город беречь». Уже миновало «Далёкое лето, то самое лето,// Где ты улыбаешься мне не с портрета… // Где… все телефоны ещё отвечают… // Где много надежды и мало печали, // Где всем по пути, где манит неизвестность, // И путник не знает, что путь его – крестный…» И сожалений о кончине эпистолярного жанра она не испытывала: «…Всё к лучшему – не станут боль чужую // Читать и перелистывать впустую, // И пепел наш не будут ворошить…» Но те же ангелы смотрели светло, а Казанский собор с его колоннадой держал свои объятия открытыми. И август радовал предчувствием: «…Скоро яблочный Спас, мой родной. Мы откроем окно, // И подскажет нам утро, что яблоку всё прощено…» А осенняя Ингерманландия, несмотря на отнюдь не радужный вид – «…Деревня, словно остров, и кругом // Поля картошки да седое небо…», пробуждала нечто большее, чем просто тоска: «Мой бедный край, мой безнадёжный рай – // Неласковой души глухая нежность…» В «Бубенцах» появились, а потом перешли в другие книги Екатерины и те, кто и сегодня остаётся одной из её жизненных опор и отдушин. Увидеть в старой худой лошади «священное безумие коней,// Разбивших колесницу Фаэтона» – это ещё, пожалуй, немного по-девичьи. Но уже через несколько страниц голос становится куда жёстче: «…А небо отчуждённо и высóко, // И хрупкий лист ложится в снежный прах. // И скачут кони далеко-далёко, // И ветер сушит слёзы на глазах…» Насовсем романтика не уходит: «…Выйдет волк на курган. И захлопает крыльями птица. // И промчится табун, серебристый от звёздных дождей…» Но перед лицом главного противника – «Смерть в окно постучится однажды…» – вспоминается отнюдь не мифологический Пегас: …И, быть может, на миг затоскую, Увидав далеко-далеко На земле возле стога – гнедую Со своим золотым стригунком. И рванусь, и заплачу бесслёзно, И беспамятству смерти назло Понесу к холодеющим звёздам Вечной боли живое тепло. Между двух аккордов Представляя собой, по сути, весьма объёмное и цельное избранное с прибавлением новых стихов, плотно свёрстанный «Воин…» позволяет оглядеть практически весь предыдущий сравнительно недлинный творческий путь Полянской. Во всяком случае, по тем стихам, которые сам автор считает актуальными. Как написала сама Екатерина в 2011 году в автобиографии для третьего тома антологии «Наше время» [См.: Наше время. Антология современной литературы России (поэзия и проза)… – М., 2011. С.219.], она и в детстве, и в юности студенческой ни в какие лито не ходила, знакомые и друзья литературой не интересовались. И даже муж, отнеся её стихи в редакцию журнала «Нева», надеялся на отрицательный отзыв – тогда-то, мол, неизбывная охота к писанию и пропадёт. Ан вышло по-другому – дело кончилось публикацией в «Неве» и теми самыми «Бубенцами». Впрочем, не кончилось – началось. Именно тогда, по словам Полянской, она и стала знакомиться с «литературными» людьми, читать стихи современных поэтов. И в одно из питерских литобъединений пошла – однако ненадолго, поскольку, считая стихи индивидуальным делом, писательских тусовок сторонится. Откуда взялся культурный запас, необходимый для быстрого (за последние одиннадцать лет – ещё четыре книжки и несколько литературных премий) взлёта, краткий «отчёт о проделанной работе» не объясняет. Сказалась, полагаю, явная способность к сосредоточению на самом ценном – а поэзия для Полянской, безусловно, является таковой. Плюс, наверное, как водится в таких случаях, с семьёй да учителями повезло. С родителями, однако, не факт. Во всяком случае, короткое – в двадцать строк – воспоминание об отце рождает ощущение тревоги, а не благости: «Отец мой был похож на волка – // И сед, и зол, и одинок. // Лишь на руке его наколка – // Раскрывший крылья голубок…» И даже «напрочь забывая лица», лирическая героиня… Впрочем, один из двух редакторов «Воина…» – Борис Друян, благодаря которому и появилась её первая публикация в «Неве», – на презентации в питерском Центре современной литературы и книги отметил, что Полянская за лирического героя не прячется. Так что, получается, сама Екатерина сквозь годы по-прежнему видит эту птицу, «летящую средь вздутых вен», а в зеркале, то есть у себя самой – «Всё тот же странно-напряжённый, // Неуловимо-волчий взгляд». Фортепиано тоже не вызывает у автора традиционных в таких случаях поэтических восторгов: «Когда моя мать умирала, // Я изо всех сил // Стучала по клавишам фортепьяно, // Стоявшего в этой же комнате. // Что ж, мне тогда // Было пять лет. // Я не ведала жалости к смертным, // Так, // Как не знали её // Бессмертные боги античности…» И теперь, превзойдя годами и мать, и Христа, всё чаще ощущая огромную боль и стремясь, подобно зверю, уползти от неё в дальний угол, она неизменно натыкается на чёрный молчащий инструмент… С благодарностью, похоже, вспоминается учительница музыки. Но и в этом воспоминании главное – чувство времени. Былая ученица, ставшая взрослой, «притащившись с работы, // Семью накормив и посуду вымыв, // Робко присаживается к фортепиано» и ставит на пюпитр старые ноты с пометками педагога. «Заметив над паузой слово «Дослушать!» // Слушает, как между двух аккордов // Падает жизнь, замирая эхом, // Как тишина поглощает время, // И еле слышно вздыхает вечность…» Так что античные боги, ссылки на летописи, библейские, исторические и фольклорные аллюзии, прямые и скрытые поэтические цитаты, не изобилующие, но свидетельствующие о включённости во многовековой культурный поток – всё это если не от самой атмосферы Петербурга, то, возможно, из более поздних, чем детские, обретений. Тем большего уважения вызывает человек, их добившийся. Кто пройдёт по мосту? Внимание к времени, памяти, их непрерывному и невозвратному течению начало выступать на первый план уже во второй книге Полянской – «Жизни неотбеленная нить» (2001). В историческом Александровском парке недалеко от Петропавловки, который теперь «пахнет шавермой и снежной талью», «…так легко, заслышав на минуту // Какой-нибудь заигранный мотив, // Очнуться средь сырого неуюта // И вздрогнуть, обнажённо ощутив, // Что, словно из глубокого надпила // Неудержимо-щедрая смола, // Жизнь истекла. В ней что-то было, было, // Чего понять я так и не смогла…» Этажи старого дома, разделённого на коммуналки, вздыхают о прежних жильцах: одних уплотнили в двадцатом, других взяли в конце тридцатых, третьи умерли в первую блокадную зиму почти сразу, четвёртые, в угловой комнате – продержались подольше, пока не сожгли всю мебель… По-иному, кружа, движется время в старинной крепости, стоящей слегка в стороне от посёлка: …Расстояние – благо обоим. Оно неспроста, Разделяя, хранит слишком разные эти места. Вот – ворота, вот – мост, но разрушен последний пролёт, И прогулочным шагом сюда ни один не войдёт… Отстраняясь от экскурсионной суеты, поэт прочитывает на обломке могильной плиты: «…придите ко Мне все тружда…» И, сознавая, что «…Плоть работает в поте. И всё-таки трудится – дух…», внутренним слухом внимает: …Я воззвавший. Я – Тот, Кто над вечностью строил мосты, Но зависли они, словно крик Мой, среди пустоты, И у каждого есть ненадёжный последний пролёт… Кто услышит Меня? Кто пройдёт по мосту? Кто пройдёт?… Ответа нет, мирская суета продолжается. Однако вместе с ней остаётся и надежда: …Но, вгрызаясь камнями, как будто зубцами – пила, Стены делят пространство, и время, и нас пополам. И в проходе сквозном ничего, ничего больше нет – Только воздух и свет, только мост через воздух и свет. Начало нового века побуждает поэта и к открытой публицистике. Вполне современно звучит для Екатерины, к примеру, известная цитата из дневника Николая II: «…На пустыре величественный кран, // Как вождь, простёр пустую длань. И снова – // Кругом измена, трусость и обман, // И горький дым отечества больного…» Родина у неё подобна грузной тётке, благодарной слепому баянисту за полузабытую «Катюшу»: «…Помята, хмельна и незряча,// Заслышав знакомый напев, // Россия тихонечко плачет, // По-бабьи щеку подперев…» И верна родной стороне одна боль-беда, что «…кружится-пляшет, // Рукавом дырявым машет…» Но даже в эпоху «…рынков, нищих стариков, // В кошёлки собираемых бутылок… // …Где время, обращённое в песок, // Сочится, незаметно остывая…», душа остаётся на удивление живой. Быть может, благодаря одному из ангелов-хранителей: когда собратья радостно вспоминают, кого из грешников они спасли для вечной жизни, «…лишь один, совсем неопытный, // Как двоечник, оставшись не у дел, // В своём углу о нас молился шёпотом // И души наши грешные жалел…». Возможно, к этому ангелу и обращается поэт, когда та самая неотбеленная нить снова и снова завязывается узлами: «…Ангел мой, погоди, не крыло мне подставь, а плечо – // Я ещё не сейчас, не сейчас эту землю покину. // Неуютная жизнь, где порою не видно ни зги, // Где на выцветших снимках всё тоньше и призрачней лица… // Всё равно – погоди, с каждым часом сужая круги, // Торопить меня в путь, из которого не возвратиться…» Как в своё время для Маяковского, символом времени для Полянской становится отношение к животным – на этот раз бездомным собакам, одну из которых расстреляли «люди в серой милицейской форме»: «…Собаки умирают нынче стоя, // А люди, утеряв свой прежний облик, // Иное обретают естество, // Столь чуждое и страшное, что разум // Смущается, и сердце замирает, // Пытаясь в бездну правды заглянуть…». В такое время и с такими ощущениями отрада одна – природа. Хотя бы городская, в виде «парнишки-воробья», что «У голубя выхватывает лихо // Кусочек сухаря. И воробьиха // В восторге замирает: «Ах, храбрец!», и крадущегося к ним рыжего кота. А за городскими пределами – тем более: «Ладони ветра пахли мятой… // А повод – кожей сыромятной // И конским потом… // И, прижимаясь к жёсткой гриве, // В потоке времени скользя, // Я понимала, что счастливей // Стать на земле уже нельзя…» Две любви – поэзия и конный спорт, коим Екатерина, по некоторым сведениям, занимается едва ли не профессионально – не могли не объединиться. Так что Пегас всё-таки прорвался на страницы, ускакав от тех, кому его было «порешили сдать в прокат»: «...И с хохотом, не ведая преград, // Дорогою нетореной и звонкой // Вовек неутомимые ветра // Стремительно летят ему вдогонку…» Именно это, однако, Пегасу делать по его природе и полагается. Куда менее ожиданным выглядит опровержение общепринятого моралите, завершающего хрестоматийную басню про стрекозу и муравья: «…Как хорошо! Хоть кто-то в мире этом // Не ведал безысходности труда. // В минуту вдохновения её // Создал Господь из воздуха и света // И отпустил. И не спросил совета – // У скучных и жестоких муравьёв…» Мечтать, понятно, не вредно. Однако Полянская явно причисляет себя не к мечтателям, а к тем, кому дано одиночество «…как милость… // А может быть, сверкая и грозя, // Им вдруг такая истина открылась, // С которой оставаться здесь – нельзя…» И именно эта соединённая с болью истина, когда «жизни – ровно на вдох», сменяет рыдание – пением. От любви, от печали, от жалости Не взяла ни крупинки, ни малости. Ни добра твоего и ни зла – Ничего я себе не взяла. Не кляла, не рыдала заученно, Только крест на шнурке перекрученном, Крест нательный на тонком шнурке Крепко-накрепко сжат в кулаке… Средь скачущих теней В «Геометрии свободы» (2004) любимые Полянской кони впервые соединились и с городом – правда, в холодной бронзе, в виде известной скульптурной группы на Аничковом мосту над вспухшей от дождей Фонтанкой: «…И на мосту, средь скачущих теней, // Где всё и вся равны и равно ложны, // Не так уж сложно удержать коней, // И только напоить их невозможно…» Так что традиционное для петербургского текста противостояние тепла и стужи-влаги, жизни и камня-металла всё-таки осталось. Традиция напиталась теперь и её собственной жизнью, что, судя по одному из стихотворений, иногда представляется слишком долгим дождём, который надо переждать. «…Этот дом, он как зверя меня обложил, // Коридорами, лестницами закружил. // Я – живая мишень, я на злом сквозняке // Своё робкое сердце держу в кулаке…» Густой туман во дворе похож «на волглое бельё с казённой койки» – больничной, если учесть «мирскую» профессию автора, который год за годом втискивает тело и душу, «перекрученную в жгут», в чужой уют здешнего трёхмерного пространства: «И только заоконный мой двойник // Изученно-неведомой природы // Так тих и светел, словно он постиг // Простую геометрию свободы…» В этом городе, где «всё вперекрёст, вперехлёст, вперекос», на обеих сторонах любой монеты обнаруживается решка, а в мираже, коллаже и в папиросном дыму среди вороньих крыл иногда мелькают ангельские и проступает из времён блокады слепое окно, перекрещенное бумажными лентами. Здесь, где теперь уже одновременно «за здравие флота в бокалах вскипает вино, // И на саночки с телом замедленно падает снег», пришедшие на изломе времён дни «легче пуха взлетают и рушатся тяжестью плит… // И пронзённое шпилем, голодное сердце – болит…» Здесь даже просящий милостыню инвалид, изувеченный в Афгане или по собственной глупости – неизвестно, всем своим видом напоминает: «…Мы, взглядами скользя, // Шагаем по стране, где зарекаться // Ни от сумы, ни от тюрьмы нельзя…» И горькая судьба трёхлетнего сынка Тушинского вора и Марины Мнишек, казнённого на исходе прежних смутных времен после воцарения первого из Романовых, пробуждает обречённую сопричастность: «…Яблочку – катиться вниз, // Кто умеет – помолись // О душе ворёнка, // Ребёнка – воронёнка, // О себе, и о стране, // И о грешной обо мне…» Здесь после гибели «романтичных убийц, поэтов, идеалистов», рождённых и сожранных революцией и благополучно забытых, после ухода её пасынков, успешно порыбачивших в мутной воде, новое поколение next, следуя цепкому слогану, выбирает всего лишь пепси-колу. Здесь на зимнем рассвете, «…смешав имена, судьбы и крошки хлеба, // Хлещет в провал окна яростный холод неба». И всё-таки, когда отпускает боль, «над вечно равнодушной пустотой», просачиваясь по трещинам в стене, «Скрипичная мелодия всё выше // Взбирается по тоненькой струне…» Здесь тихо падающий на землю снег «…белизной своего всепрощенья // Укрывает, не глядя, поспешные наши грехи…» Здесь, не обольщаясь мыслями о своём великом предназначении, «…Я пыталась исполнить хотя бы несложную малость: // Не скулить по-собачьи, а также по-волчьи не выть. // А ещё – не хулить даже самым изящнейшим слогом // Землю, время, судьбу, что даются один только раз, // И не верить, коль скажут, что мы ненавидимы Богом, // И не верить, коль скажут, что Он отвернулся от нас…» К Нему она обращается над сизоватым бурьяном Прииртышья, тихо шуршащим под копытами коня: «…Вот я, Господи, – малая точка // На возлюбленной горькой земле, // И дана мне всего лишь отсрочка – // Десять жизней – в степи и в седле…» К Нему взывает вместе со святым Борисом, спокойно, лицом к лицу встретившим свою судьбу: …О Господи! Услыши и помилуй, На миг один открой Свои пути, И если я ослабну – дай мне силы До губ дрожащих чашу донести. Чтоб, к жизни пробудясь в смертельной ране, Расправив изумлённые крыла, Бессмертия глубокое дыханье Душа перед полётом обрела… Собственная это вера или опять же «только» следование мощной культурной традиции – вряд ли стоит расспрашивать всуе. Малость свою перед огромным миром осознаёт со временем едва ли не каждый, и как именно зовётся источник добродельного самостояния – неважно. Спи, мой ангел. Я тебя люблю. И да будет сон твой бестревожен. Я тебя у смерти отмолю, И у этой страшной жизни тоже… Но когда над посвящённым другу стихотворением приходится писать «Памяти…», сердце вновь заходится от тоски: «…Водой сбегая с лопасти весла, // Сухим песком сквозь пальцы протекая, // Нелепая, такая и сякая, // Она – была. О Господи, – была!» Тоска – странная, высасывающая душу – может и разрушить. Так что Полянская уже с иронией вспоминает иного человека, который после сорока «...ждал инфаркта, чтобы разогреть // Вкус к жизни, как холодные консервы» и помер совсем по другой причине. Что же касается боязни, сопутствующей человеку от рождения до смерти, то здесь поэт ставит эпиграфом строку из Иоанна Богослова: «…То, что выходит из праха – становится прахом. // Между двух дат угадай, улови, проживи // Эту попытку преодоления страха – // Жизнь, где боящийся несовершенен в любви». В этом несовершенстве, похоже, она и раскаивается: «…Я прошу тебя – слышишь, любимый, – // Не суди ты меня, не суди…» Это, правда, отнюдь не единственный проступок: «Я войду, и ты припомнишь разом // Все мои учтённые грехи: // Наизнанку вывернутый разум, // Лошадей, приятелей, стихи…» Но уж если обвиняют в вечном шутовстве, то и ответ суду не подобающий – романсом: …Мой дорогой, мой слишком дорогой, Когда бы я умела быть другой, Когда бы я умела быть иною – Со взором тихим, с гибкою спиною… Но вот – на отблеск дальнего костра Я полетела – всем ветрам сестра, Черпнув из глубины времён однажды Придонную мучительную жажду Той воли, что и не было, и нет… И тесен дом, и узок белый свет. Попытки утолить эту жажду словом тоже мучительны: «Я, скорее всего, просто-напросто недоустала // Для того, чтобы рухнуть без рифм и без мыслей в кровать – // Что ж, сиди и следи, как полуночи тонкое жало // Слепо шарит в груди и не может до сердца достать…» Стучащий за стенкой водяной метроном истекает отнюдь не водою: «…Жизнь тяжёлою каплей на кухонном кране зависла, // И не может упасть, притяженью земному назло». И даже в апрельский день – счастливый, потому что пишется – сердце, похоже, тоже щемит: «…И снова мир течёт сквозь решето // Фантазии, сквозь близорукость взгляда, // И мне не выразить словами то, // Что вновь его спасает от распада». Подчас даже обращение к природе выручает не всегда, принося яркие, но короткие этюды, подобные пресловутым заметкам фенолога. Глубину и высоту, как водится, открывает лишь сопоставление: Непрерывно, натужно, упорно Сквозь рожденье, страданье и смерть Наших жизней тяжёлые зёрна Прорастают в небесную твердь. А навстречу – легко и неровно Дышит бабочки трепетный блик, И полёт её радостен, словно В бесконечность распахнутый миг. И вариации о братьях наших меньших благодаря тому же самому уходят от подобия бесчисленным кошачьим фотографиям, что лайкают друг у друга пользователи электронных социальных сетей. Впрочем, одна из таких вариаций вполне оправдывает и появление таких фоток: «Как хорошо, что они ещё есть // В мире, где горестей не перечесть, // В мире, дрожащем у самой черты – // Голуби, псы, воробьи и коты…» А тем более те коты, в глазах у которых «зыбко и тревожно» искрятся капли времени. И снова, конечно, кони – в Богом ли забытой деревне, на хрупкой ли открытке, что отправлена с фронта первой мировой. Или тот счастливец, который впервые пугливо ступает на выпавший снег. Отпугивая смерть Продолжая и связывая, переплетая главные поэтические линии, отчётливо проступившие в «Геометрии…», новая книга, увидевшая свет через три года, предложила её усовершенствованный, так сказать, неевклидовый вариант. При этом одна из линий, петербургская, как бы растворилась в окружающем пространстве. Во всяком случае, в «Сопротивлении» (2007) Петербург как таковой даёт о себе знать лишь косвенно: доносящейся из-под земли дрожью метропоезда, идущего к неведомой цели, раздолбанной маршруткой, постоянными мыслями «о том, где чего можно купить подешевле». Так, не слишком определённое обстоятельство места и времени, поделать с которым ничего нельзя – да и не стоит, право. Какая разница, где расположена давно утратившая суть и ставшая «чем-то вроде дурной привычки» работа, с которой возвращаешься домой, ибо иное против правил? «…И в вопросе «Ну, как дела?» почувствовав ложь, // Точнее, источник какой-то бодренькой фальши, // Хочешь убить. И, зная, что не убьёшь, // Улыбаешься. // Моешь полы. // И – живёшь дальше». Куда больше занимает поэта несообразная с уникальностью жизни обыденность, свойственная многовековым городам и тем их коренным жителям, которые не склонны к радикальной перемене мест: Вот так и прожить всю жизнь в единственном городе, на той же улице, в том самом доме, куда тебя принесли, и откуда когда-нибудь вынесут. С детства помнить уйму деталей… Всё понимать, ходить каждый день на работу, не ждать ничего. Слушать музыку времени, чувствовать, как мир, сквозь тебя протекая, перестаёт быть твоим. Можно, конечно, и впрямь расслабиться и превратиться в слух. Однако необратимость того же самого мирового течения к смирению явно не располагает. Отсюда и ощущение себя вечным контрабандистом, нарушителем границы. И – сопротивление, среди возможных интерпретаций которого присутствует даже природный, физический смысл: «Это – бьющий на поражение // И возрождающий вновь // Ток высочайшего напряжения – // Ненависть и – любовь». То же напряжение – в ещё одной самохарактеристике: …То, что я есть, всем и всему назло Строит в ночи мосты, а с утра – взрывает. То, что я есть, заставляет врастать в седло Именно когда из него выбивают… То, что я есть, желая себя разбить, Мечется нелепо и неосторожно. То, что я есть – меня заставляет быть, И тут изменить уже ничего невозможно. Странно даже, что рокерские интонации, свойственные расхожему образу Питера как минимум тех лет, когда нынешние сорокалетние были детьми и студентами, не звучали у Полянской раньше. Впрочем, своё кредо она до этого столь жёстко тоже не заявляла. Но что характерно – отправной точкой для этого манифеста взяла строчку Шекспира. А в ряде новых стихов, написанных уже после «Сопротивления», обратилась к блюзовым ритмам и интонациям. Новой краской в книге 2007 года становятся отголоски фольклорной словесности: «Я прошу тебя: никогда, // Никогда не входи в мой лес – // Там в озёрах темна вода, // И на каждом стволе – надрез…» В рамках собственного мейнстрима пробует она обновить и традиционную для других метафору зазеркалья: «…Даже не соблюдая приличий // Мир меняет своё обличье // И вытесняет меня. // К зеркалу, к самой стеклянной кромке… // Первый шаг – больно. Второй шаг – колко. // Третий – уже полёт». А в «животной» теме вдруг возникает спускающийся к реке серебряный единорог. В попытке обыграть обиходную шуточку вновь испытывается на пригодность ирония. Но самым органичным, идущим из глубины души оказывается всё-таки не эксперимент, а извечный и всегда новый разговор со Всевышним: «…что // ещё Ты отнимешь?... // Неужели Тебе // и впрямь нужен пепел? // Зачем? // Что Ты им хочешь удобрить?» Или: «Нищенской горькой злобы // Свистнет над ухом плеть. // Выжить! // Но только чтобы // Сердцем не обмелеть. // Ты, чьё время всё ближе, // Муку мою прими – // Выжить, // Позволь нам выжить // И – остаться людьми». Актом сопротивления главному противнику становится и танец, в котором воедино скручиваются время и пространство: «…вечности тончайшая иголка // Насквозь пронзает эту круговерть, // И я пляшу – на углях, на осколках, // Живым огнём отпугивая смерть». Подчиняясь слову, время оживает, «устремляясь вперёд, не щадя на пути никого», когда мать открывает его ребёнку в песочных часах. Но и тот, переворачивая стеклянные колбы, оказывается властен над ним – ах, если бы не только в воображении... Сломанная пластмассовая кукла, увиденная сынишкой в одной из многочисленных питерских речек, возвращает из памяти давний рассказ бабушки об эвакуации из блокадного Ленинграда в трюме баржи, где за тонкой стальной стенкой слышался плеск воды и рёв атакующих пикировщиков: …Когда налёт окончился, они, На палубу поднявшись, увидали Две баржи – только две из четырёх. А на воде качались чемоданы, Узлы, какой-то мусор. И ещё – В нарядном платье – новенькая кукла… А время «романтических шестидесятых» делает столь же ощутимым грифельная картина на задней стенке старого шкафа: …Только тот, кто жил в стране огромной, В городе холодных, чётких линий, В коммуналке, в уголке за шкафом – Странный сплав тоски литературной И живой необъяснимой боли – Мог, придя с работы, заниматься Сотворением своей вселенной… Больше зримых и осязаемых деталей автор теперь замечает и во время экскурсии в старинную крепость – на этот раз вполне конкретный Изборск. Не зря поэтов причисляют к художникам: живописцы тоже, бывает, возвращаются к уже реализованным ранее сюжетам, создавая вполне самостоятельные варианты. Впрочем, в «Балладе о деревьях» горький, но спокойный рассказ о том, как знакомые с детства, казавшиеся вечными деревья исчезают с городских улиц, автор всё-таки завершает развёрнутой метафорой: …странно – мне кажется, моя кожа Последнее время как-то грубеет… Всё глубже в землю врастают корни, Всё выше к небу тянутся ветви. И вот уже я спокойно знаю Конечность жизни – и бесконечность, Реальность смерти – и нереальность. И – не боюсь ни того, ни другого. Не страх, но ощущение родства вызывают и два серых пса, что остались от уничтоженной бродячей своры и теперь лежат около входа на Северный рынок: «…Не нами расчислены наши короткие сроки, // И всех нас когда-нибудь выловят по одному…» И только смерть лошадей, сгоревших в огне пожара, пробивает выстроенную годами оборону: «…В ковылях нездешних кони скачут, // Вечность из небесной пьют реки… // Друг, не плачь, – я говорю. И плачу. // Плачу и сжимаю кулаки». Пускай поэзия – мышь, зато снуёт она «у самых ног Аполлона». И в собственном стихотворном мире автор может себе позволить иной исход – хотя бы для одной лошади, которую сопровождают античные Парки: …Время дрожит светотенью, и всё-таки длится Так осязаемо-плотно и неуловимо… Лошадь идёт по дорожке. И третья сестрица Лязгает сталью. И снова – сослепу – мимо. С людьми так не получается: «И вскипает ромашковым лугом // Предо мною нетронутый лист…», а одышливого старика, который просил написать «что-нибудь о ромашках в цвету», уже нет на свете. И всё-таки именно «место, где можно писать стихи», Екатерина именует раем: …Там, в раю, моя фляжка всегда полна Свежей водой, и что особенно важно, Там для меня есть время и – тишина, И карандаш, как посох в пустыне бумажной… Жалко, читателей в этом же месте недостаёт. Именно возможность творить примиряет поэта с Родиной, где «…люблю непонятно за что эту горькую, лютую, // Неуютную жизнь. И стихи не писать – не могу». А ненависть переходит на тех «мальчиков из хороших семей», которые, от избытка юных эмоций пописав стихи, «своевременно // начинают делать карьеру… // и смотрят на ТВОРЧЕСТВО, // сжигающее людей изнутри, // как на приправу, // экзотический соус // к хорошо приготовленной жизни». Впрочем, и эта ненависть уже в прошедшем времени. Ибо поэзия требует самоотдачи полной, без остатка, предупреждая: А я сказала: ты забудешь всех. И ты забудешь всех на самом деле, Ты спутаешь часы и дни недели, Сравняешь неудачу и успех, И подвиг – с нераскаянной виной, А истину святую – с грешной ложью, Чтоб странником слепым по бездорожью Идти за мной. Сопротивляться этому невозможно: даже попытка наступить на горло собственной песне заканчивается лишь сломанным каблуком. Ибо горло это – железное. Мелодия жизни Те, кто мог наблюдать за творческим развитием Полянской по оригиналам её предыдущих книг, возможно, имеют более полное представление о его динамике и нюансах. Сгустки же, сведённые под обложкой «Воина…», плотно сцеплены с её новыми, нынешними стихами и не открывают в них особенных, бросающихся в глаза новостей. Оно и понятно: такая экзистенциальная, сущностная поэзия обновляется вместе с внутренним миром автора, а значит, весьма постепенно и, если угодно, мучительно – особенно в пору зрелости. К такому поэту обращаешься как к собеседнику, который вместе с тобой переживает и обдумывает все перипетии земного бытия, пространства и времени, жизни и смерти. На таком пути в глубину событием становится каждая новая крупица понимания и чувства, рождающаяся в диалоге со всем миром. В безуспешных попытках описать стихами многообразные движения природы приходит догадка: та остаётся невыразимой потому, что «…я сама – // Лишь только эхо, шёпот тростника, // Чуть слышный сон примятого цветка, // Смех земляники в спутанной траве, // Шальная мысль в Господней голове». С повседневностью смыкается давняя арабская поговорка: «И работа, и дом – всё тюрьма да тюрьма. // В этих стенах давно бы сошла я с ума, // Но спасение – в детстве подаренный мне // Рай, который вовеки – на конской спине…». В оживающем после дождя лесу осеняет: мир, отмытый ливнем от горя и зла, «безмятежно круглится в натруженных Божьих ладонях», и над цветущей гречихой вновь кружится пчела – а это значит, что апокалиптическое предсказание болгарской пророчицы Ванги ещё не осуществилось. В собеседниках у Екатерины, помимо Крылова – и Плещеев с его хрестоматийной ласточкой: «…Кому – за порог, а кому-то и ласточка в сени // Несёт не войну, а весну на точёном крыле… // Куда ж я теперь бесконечной дорогой осенней // Всё дальше иду по своей сиротливой земле?» И Пушкину она отзывается («…Нам и нужно – лишь покой и воля…»), и Высоцкому пробует вторить: «…Родилась бы мальчишкой – ей-богу, пошла в машинисты, // Чтоб всю жизнь выводить поезда из тоннелей на свет». И с культовыми фигурами зарубежной литературы с иронией и всерьёз перекликается: «…пролетарий над гнездом кукушки // Похмельною качает головой… // И лёгкость бытия невыносима, // И неподъёмен груз небытия…» Под горбатым питерским мостом, где «всё бетон да гранит», едва ли не вслед за Гоголем она обнаруживает нежить-шишигу. Но та хоть и пугает прохожего – «Будь ты крут и удачлив, а всё ж без креста // Не ходи лунной полночью мимо моста…», а совсем не страшна: «Чешет тощею лапкой мохнатый живот, // Утирает слезинку облезлым хвостом». Смягчает как-то, одомашнивает что ли такие узнаваемые «асфальт да чугун» на мосту и «проводов непонятный колтун» над ним. А другие будничные заметы питерской жизни становятся новыми метками временнóго течения: …И когда так банально левее и ниже соска Вдруг проклюнется боль, осознаешь, что жизнь твоя длится, Пока дремлют собаки, торговка кричит, и – пока За немытым окном шебаршит коготками синица. А в Москве обострившееся внутреннее зрение позволяет различить, что «церквушка, // впаянная в асфальт, // капелькой времени // всё же стекает в вечность». И это позволяет поэту простить столице все её прегрешения от незапамятного разгрома Новгородской республики до сегодняшних «сытой наглости кухарки» и «потного гламура». «…К странствиям во времени я больше // Склонности имею, чем в пространстве…», – признаётся Полянская, сама погружаясь в это течение. Ведь глядящий на него человек «…становится временем сам, // И оно, потихоньку струясь в глубине его плоти, // Пробиваясь неведомым руслом к иным небесам, // Размывает границы при каждом своём повороте». И вновь – возврат от метафорического возвышения в земную юдоль, горькая суть которой напоминает о себе случайным обрывком старушечьего разговора: «…мужикам хорошо: поживут, поживут и – помрут. // Ни забот, ни хлопот… Ты ж – измаешься в старости длинной, // Всё терпи да терпи…» Но поэтическая тяга к жизни по-прежнему противостоит смертному страху, даже когда тот, казалось бы, одолевает: …Сжаться в комочек и репетировать смерть, Чтоб обмануть её верней и успешней: Главное – не выдать себя, суметь Слить пустоту внутри с пустотою внешней. Но, услыхав, как пульсирует тишина, Вдруг заиграть, всё бесстрашней, свободней, выше, Чтобы мелодия жизни была верна, Даже если её никто не услышит. И если так – значит, в итоге можно будет спокойно сказать своему спутнику: «…Ничего не боялась. Любила тебя одного. // Прожила – как смогла. И действительно, хватит об этом». В последних словах – не обрывание себя и собеседника на полуслове, а просто спокойная готовность к исходу: «…И я прижмусь к шершавому стволу – // Ко всей своей неласковой отчизне, // И вдруг услышу славу и хвалу // Создателю – в дыханье каждой жизни. // И я заплачу, веря и любя, // На все вопросы получив ответы. // И улыбнусь. И выдохну – себя // Навстречу ослепительному свету…» А про любовь она редко. Судя по всему, только в последнее время и стала приоткрываться. К примеру, в вариациях на темы «Гамлета», говоря о ещё одном различии полов: «…Ум женщины не хочет воспринять // Мир без любви, предпочитая само- // Уничтоженье. Для мужчин любовь – // Хороший соус к основному блюду…» Или соединяя в признании иронию, горечь и ощущение счастья: «…То-то смешно: всю жизнь за любовь воевать, // Чтоб изнутри взорваться потом от неё же. // Ах, мой ангел, дивно любовь хороша – // Света светлее, неуловимей тени… // Надо было с детства ею дышать // И привыкать к перепадам её давленья». Способность к творчеству удерживает поэта в числе живых, но тем по-прежнему представляется лишней. Сознавая и переживая это, Полянская остро ощущает и свою неприкаянность: …Только в пути, да ещё – на конской спине Не бесприютно, не одиноко мне… И отражает, не понимая – что, Силится вспомнить, глухо мычит: «не то!», Корчится от мучительного забытья Малый осколок безмерного целого – я. Найти в этой безмерности созвучные души – счастье, и к ним, «своим», она прорывается, «словно из окруженья». Или, не видя смысла в поздних попытках вписаться, притвориться, что до всего есть дело, в седле под конский мах снова летит над зимним пересохшим бурьяном «вдоль тонкой льдистой кромки небытия». Или, получив от судьбы желаемое – но не совсем то, почти, приблизительно – «и в пародии этой почуяв ловушку, издёвку», опять вырывается из города с июльские луга, высоко над которыми плывёт «малиновый звон иван-чая». И в лёгком полёте неизвестных ей птиц видит не рефлексы, а «…Мужество недолгих, хрупких жизней – // Щебетать у смерти под прицелом…» И не устаёт наблюдать за шмелями и бабочками, танец которых «…исполнен радостного смысла… // Словно им доподлинно известно, // Почему и для чего всё это, // Словно бы основы мирозданья // Держатся трудом их терпеливым…» А одна из них, исполненная царственного величия, дает возможность начать отсчёт сначала: …День звенит и стрекочет, кружится, мерцает, мелькает… Только перед закатом, когда в золотой полусон По стволам разогретым смолистые капли стекают, Приплывает сюда на резных парусах махаон… С каждым вздохом крыла отлетает он выше и выше, Свет вечерний дрожит над моим неподвижным плечом. И взрывается время, мешая небывшее – с бывшим. И душа вспоминает. И не понимает – о чём. Слова мужского рода Не просто привлекательность, но притяжение этих стихов определяется отнюдь не изощрённостью классической формы или попытками любой ценой обновить устоявшийся поэтический инструментарий. Так что искушённый филологией гурман, ища новых вкусовых ощущений и наслаждений, вряд ли заинтересуется Полянской, а будучи особо въедливым – наверняка отыщет у неё кое-где слабину в рифмах, декларативные перегибы или отголоски продолжающегося знакомства с классиками и современниками. В иронии, которая стала общим местом современной литературы, Екатерина тоже не особо изощрена – разве что «Хроника одного вечера» в этом отношении запоминается. Но тут сама ситуация комична, и повод посмеяться над собой очевиден: «Стих подпирал. Он должен был явиться…», и поэт, даже дома не найдя себе тихого места, уходит на набережную, садится на ведущие к воде ступени – и его принимают за самоубийцу, пишущего предсмертную записку… А вот читатель, который к литературному шоу-бизу не склонен и таким же образом чувствует свою сопричастность времени, пытается плыть против его течения и сопротивляется смерти, наверняка увидит в Екатерине родича. Если, конечно, он, сам пытающийся подняться над буднями, помнит о том, какой поддержкой может быть поэзия, рождённая не игрой в слова, а поиском жизненного смысла и опоры. Называя нелепостью распространившееся поветрие называть всех поэтесс, даже начинающих, поэтами, писатель и критик Виктор Кречетов в альманахе «Молодой Петербург» считает, что требовавшие этого в начале XX века по отношению к себе Марина Цветаева и Анна Ахматова отдавали тем самым дань феминистской борьбе за эмансипацию [См.: Виктор Кречетов. Кое-что о поэтах, стихах и поэзии. // Молодой Петербург – 2010-2011: Альманах. – СПб., 2011. С. 210-211.]. Что ж, нормы родного русского языка исполнению такого требования и вправду препятствуют. Но разве не мужественное спокойствие звучит и в этих строчках Екатерины Полянской: «Не печалься, душа. Среди русских воспетых полей // И чухонских болот, пустырей обречённого града // Ничего не страшись. О сиротстве своём не жалей. // Ни о чём не жалей. Ни пощады не жди, ни награды…»? Какими бы несовместными ни казались эти слова, именно женское мужество, которого требует каждодневное противостояние смерти, являет в своей поэзии – и, чувствуется, собственной жизни – Полянская. Отсюда, похоже, и мужские интонации, которые слышатся подчас в её поэтическом голосе. В конце концов, и «воин» – тоже мужского рода. «Как зверь, притворяясь подранком, уводит собаку», Полянская вновь уводит упорно хватающую за горло безумную жизнь в «снежно-белое поле листа» и там «почти что на равных» снова схватывается с ней. …Но когда мы сойдёмся, и хрустнут упрямые кости, И застынет слеза на морозном и хлёстком ветру, Я шепну ей: «Послушай, мы обе – случайные гости Во вселенной чужой, на чужом бесконечном пиру. Громоздятся и рушатся строчек неровные кручи, И бумажного поля остры ледяные края… Только мы горячи. Без ума, говоришь? Так-то лучше. Так-то лучше, сестрица… родная… голубка моя!» А это уже вполне по-женски. Андрей РАСТОРГУЕВ. 30,01.2013 |
