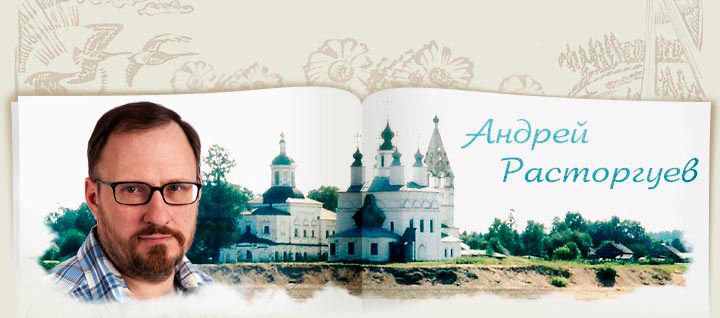
По тагильскому счёту  О ТАГИЛЬСКОМУ СЧЁТУ О ТАГИЛЬСКОМУ СЧЁТУПрозаик Борис Телков создал собственный формат качественной развлекательной литературы Нынешний брутальный образ Нижнего Тагила особых шансов на культурный ребрендинг ему, на первый взгляд, не оставляет. Как нынче говорится, мемы типа «Тагил рулит», «приедем с мужиками на танке и разберёмся» из памяти народной изгладятся нескоро… Даже новый уралвагонзаводский трамвай, который стал звездой уже нескольких выставок и интернета, снаружи выглядит не слишком жизнеутверждающе: эдакая глыба стекла, чёрное ледяное зубило, инфернальный кристалл Сваровски... Но есть у этого почти трёхсотлетнего – на год старше Екатеринбурга – города и другая традиция. Именно здесь в XVIII веке в дому Акинфия Демидова помимо одной из крупнейших в России частных библиотек сложилось уникальное собрание былин и песен кричного мастера Кирши Данилова. Коллекция городского художественного музея сделает честь собранию иного регионального центра, да и местный худграф – художественно-графический факультет бывшего пединститута, а ныне социально-педагогической академии – заслуженно известен далеко за тагильскими пределами. Парень из нашего города В советское время Тагил представлялся вотчиной Мамина-Сибиряка, который родился неподалёку, да Алексея Бондина, чьи биография и творчество вполне соответствовали рабоче-крестьянским канонам. На рубеже очередного миллениума ориентиры сменились, и на первый план вышла «тагильская поэтическая школа», которую вырастил осевший было на Урале поэт Евгений Туренко. Однако иных уж нет – в 2014 году отец-основатель скончался в родном тульском Венёве, а те далече – от Екатеринбурга до Нью-Йорка. С какими литературными именами Тагил может ассоциироваться теперь? Одно из этих немногих имён, безусловно, принадлежит прозаику Борису Телкову. С первого дня своей жизни – 14 января 1961 года – тагильчанин, он, как будто повторяя бондинский путь, литературой заразился в детстве. И неизлечимо: «…до сих пор испытываю мозжение и ломоту в кончиках пальцев, если мне не удалось полистать заинтересовавшую меня книгу…» («Истории болезней, колдовства и врачевания»). Книг он, по его собственным словам, начитался на домашней печке. Правда, в рассказе «Вмешательство богов», вошедшем в сборник «Штаны с большой буквы» (2012), речь идёт о постели, в которую угодил однажды летом, сломав ногу, трудно отделяемый от автора герой. На двух мерцавших тогда чёрно-белых телеканалах что-нибудь интересное попадалось редко, посему отнюдь не новая, пережившая собственную историю книга «Дети капитана Гранта» оказалась как раз. «…Я ощутил, что такое кайф от хорошей книги, и уже не мог жить без этого наслаждения… Как кит ради моллюсков пропускает сквозь усы тонны воды, так и я ради какого-нибудь замызганного томика библиотеки фантастики и приключений втягивал ноздрями в себя килограммы чердачной пыли, рвал о ржавые гвозди штаны и рубахи…» Если придираться, то киты питаются всё-таки планктоном, где моллюсковая мелкота составляет лишь небольшую часть. Но я и сам отнюдь не сразу разглядел эту мелочь за энергичными движениями автора, рисующего портрет, может, и собственный, но в то же самое время – целого поколения библиофилов, коллекции которых теперь в лучшем случае снова перекочевывают на чердаки и дачи. Впрочем, пробудившейся любовью к чтению и путешествиям дело у героя не ограничилось. Очень скоро ему захотелось посостязаться и в писательстве – если не с Жюлем Верном, то с товарищами по лесным походам. «Обычный поход в лес… в моём описании по накалу страстей и риска мало уступал героическому освоению первопроходцами сибирских просторов… Так я ступил на порочный путь откровенного сочинительства… Много позже я понял, почему… друзья не обвинили меня во лжи: хороший вымысел более живуч и достоверен, чем сама правда…» Без фантастических элементов Телков порою не обходится и сейчас. Но тогда, в детстве, оказалось, что юный писатель надолго «спалил весь творческий запал». А потом, найдя в макулатуре книжку академика Александра Ферсмана, и вовсе ушёл с головой: сначала в геологию, а после восьмого класса – и в горно-металлургический техникум. Совсем с литературой герой и, разумеется, автор не покончили. Прежде всего как читатели: «Позже ради четырёхтомника… Даля я расстался с любимым спортивным велосипедом, за несколько романов Дюма… с коричневой, великолепной потёртости индийской кожаной курткой. Студенческую стипендию я оставлял… на книжных развалах…» Да и по-писательски тоже, поскольку литературные способности позволяют герою – и, видимо, автору – в армии оказаться незаменимым при создании не только «Боевых листков», но и писем любимым девушкам («Жрецы любви»). А вот попытка сохранять армейские впечатления для будущих сочинений не удалась. Ибо далёкие от высоких помыслов отцы-командиры, обнаружив у солдата записную книжку, заподозрили его, по меньшей мере, в стукачестве. И хэппи-эндом стало уничтожение оной в ледяном заполярном туалете: «…Мои листки – мысли, чувства, вдохновенные минуты – падали на дно этой клоаки… На душе было так горько и безысходно, как если бы Устинов, главный дедушка Советского Союза, издал приказ о двадцатипятилетнем сроке службы…» («Как я убил своё дитя») В Литинститут он по всяческим жизненным обстоятельствам тоже не пошёл, хотя поначалу собирался. Так что после техникума – только самообразование и, похоже, вполне успешное. Уже много лет как Телков – признанный профессионал, член Союза писателей России, редактор ряда успешных тагильских журналов и автор изрядного числа журнальных публикаций да более чем двадцати документальных и художественных книг. Одна закавыка – ареал его известности весьма ограничен. Тираж каждой из тех же книг, что издаются, главным образом, в самом Тагиле, отнюдь не велик. Журнальные публикации выходили в Москве, в Сибири и в Германии, но большинство всё-таки в «Урале». Премии уважаемые – имени Бажова (2005) и Губернатора Свердловской области (2009), да на внеуральских дальше номинации не прошёл. И гор золотых он писательством не нажил. Хотя ещё в армии неплохие гонорары в виде дисциплинарных послаблений и разных вкусностей с продуктового склада неосторожно укрепили в начинающем литераторе мысль, что «хорошая литература должна достойно оплачиваться…» Читать эту фразу в «Жрецах любви», полагаю, надо так же, как она была написана – с горькой иронией. Но в творческой юности своей Телков, окончательно перейдя со стихов на прозу, судя по всему, примерялся именно к вершинам, причём классическим. Именно три его крепких текста, явно следующие лучшим традициям реалистической школы, открывают сборник рассказов молодых прозаиков «Июльские холода» (1991), который вышел под занавес советских времён в тогда ещё Свердловске. Больной и отчаявшийся выздороветь Осинцев, утверждая свою земную состоятельность, находит в себе силы не только заняться чисткой дымохода, но и вцепиться в надежду на спасение, что блеснула у края обледеневшей крыши («Сам с собой…»). Вроде бы спившийся «алкаш и беззаботный прогульщик» Фёдор Рубахин преображается в тяжёлой авральной работе – а потом опять срывается в запой («Что же ты, Фёдор?!»). А в заглавном для книги рассказе вполне можно углядеть истоки фирменной телковской иронии – пока что юморные, когда три солидные пожилые женщины, заслышав раскаты грома, вдруг начинают по-девичьи кувыркаться, загадывая желание. И наутро нежданные заморозки и впрямь сменяются положенным летней маковке теплом («Июльские холода»). Потом, по его словам, он пробовал себя и в манере авангардной, что наверняка отразила его дебютная книга «Время ночного чая», изданная в Екатеринбурге в 1997 году. Но найти её теперь, судя по всему, непросто – во всяком случае, в фондах областной публичной библиотеки имени Белинского она отсутствует. Так что воленс-ноленс пропустим не только полуночник, но и завтрак и обратимся сразу к «Обеду у Александра Васильича» (2005), который вместе с изданным годом ранее сборником «Жизнь одного пиджака» открыл уже вполне сформировавшегося автора. Во всяком случае, тому из читателей, кто не следил за публикациями Телкова в периодике. Записки подмастерья Сборник рассказов и эссе «Обед у Александра Васильича» сам автор охарактеризовал как «опыты литературных ощущений». Ощущения он уже тогда передавал весьма живописно. «Ночью, осклизлой, как последний пот умирающего, доктор Свифт вышел из таверны на улицу. Его крупный породистый нос, свободные ноздри которого принимали по целой щепоти превосходного бразильского табаку, теперь чуял другой, более волнующий, щекочущий воображение запах – изысканнейший аромат невидимой политической игры, для непосвящённого похожий на въедливый душок нечистых испарений…» («Вакансия доктора Свифта») «Ах, Патрик, если бы ты знал, какой это сладкий пирог – власть! И как приятно медленно-медленно погружать в него зубы, ощущать на нёбе его странный, незабываемый вкус… Какая это волнующая и леденящая игра!..» («Мухи») «…Сон рухнул, засомневавшись в своей нереальности. Я открыл глаза. На каменной стене моего дома горело свежее, как пощёчина, недоброе тавро зелёного времени… Начало шестого… Возмутитель сна, одинокий дворник, этот угрюмый рыцарь чистоты, косматым копьём гонял где-то внизу осенние листья…» («Мой дворник») «…Аромат духов мадам Панаевой оказался удивительно похож на запах порохового дыма…» («Богема») Вместе со Свифтом явственно или отдалёнными тенями под одной обложкой сошлись Оноре де Бальзак, протопоп Аввакум, Александр Пушкин и едва ли не вся известная нам со школы головка литературной петербургской богемы, что запечатлена 15 февраля 1856 года хрестоматийным снимком фотографа Левицкого: Николай Тургенев, Лев Толстой, Дмитрий Григорович, Иван Гончаров, Александр Островский и «неприметный Александр Васильевич Дружинин, беллетрист, поэт и критик», у коего они частенько обедали. Но вместе с наслаждением от собственного мастерства общение с писательской средой, несомненно, принесло Телкову – или как минимум его альтер эго – и немало горечи. Что раненый на дуэли Пушкин сопоставляется с подбитым лосем, который в последний миг тоже дотягивается до морошки («Морока-морошка»), ещё не сильно выходит за рамки известной литературной истории. И что слугу, которому несуеверный барин отдаёт догнавшую лося пулю – теперь она, по верной примете, и вдругорядь попадёт прямо в цель, зовут Мартынка, лишь освежает распространённую параллель с Лермонтовым. А что памятник Свифту стоит не в Лондоне, а в Дублине «в окружении невозмутимых дремучих ирландцев», дышащих чесноком… Это можно почесть и расплатой за неразборчивость, с которой тот строчил политические памфлеты, да за краткий миг собственной власти, когда, поняв, «что такое презрение правителя к бумагомарателям…, тут же отправил в тюрьму несколько своих собратьев». Но главный-то расчёт у Телкова – с собственными иллюзиями. За тем же Дублином, куда выброшен Свифт из «предавшего его и теперь недоступного Лондона», вполне явственно просматривается родимый Тагил. И слуга Патрик, к которому обращается известный памфлетист, давно умер, так что разговор – с самим собою. А разбуженный дворником писатель – почти демиург, по собственной прихоти преобразующий живых людей в персонажи. Однако по сиюминутному утреннему чувству – «жалкий литературный подмастерье», ибо «ещё час назад от его нечуткой руки умер, так и не родившись, герой будущего рассказа». В едва не свифтовский сарказм перерастает иронический стёб над провинциальным писателем Лапушкиным, фамилию которого можно прочесть и по-французски («Шапка Мономаха»). Вызвав на дуэль прапорщика Сидоренко за измену жены Натальи Николаевны с ним, герой всю ночь пишет письма, причем гусиными перьями, потом находит сани и едет на них к месту дуэли, по дороге напиваясь шампанского. Однако случайный выстрел и последняя фраза Лапушкина вознице: «Грустно ли тебе нести меня, братец?..» – добавляют памфлетной издевке щемящую ноту сугубо русской истории, повторяющейся отнюдь не только в качестве фарса. А вот писатели, прибежавшие на зов нувориша-благодетеля, который уже открыто переиначил свою фамилию на импортный лад – дэ Ментьев – и пообещал профинансировать издание их творений, сочувствия не вызывают. Издать-то издал и великолепно: «…шелковистая, как снежный наст, бумага, изящный, витиеватый шрифт напоминал ходы жука по белому дереву, ни единой поправки, опечатки…» Одна незадача: все книги оказались одинаковой толщины, одеты во что-то единое, серо-коричневого цвета, да ещё без авторских имён на обложке… («Вечер весёлого мецената») Меценату, впрочем, издевка обходится дорого: умирает от смеха над одной из книг – чьей именно, безымянная обложка узнать не позволяет. Достаётся и некоему литературному мэтру, который, прогуливаясь, неожиданно растворяется в воздухе – и его тень, поднявшаяся с песка, мрачно оглядывает сад… («Мэтр»). Вообще – жизнь в литературном городке, по мнению Телкова, неполна без мастера похоронных дел («Гробовщик»). В дневниках той же петербургской богемы середины XIX века «перечень мелких литературных злодейств и подлостей бесконечен и так убедительно разнообразен, что порой начинает казаться, будто в среде пишущих вообще невозможны высокие чувства…». А старомодный денди Дружинин с его призывами к артистичности мира, чьи записи «большей частью светлы, безмятежны, иногда насмешливы», оказывается не нужен «героям нового времени, нигилистам всех мастей, этим дерзким циникам» и умирает от спасительной для него чахотки. И всё же в горькой насмешке автора над самим собой, своими мечтами о литературной известности и нравами писательского сообщества – понятно, что не только столичного, в печальных мыслях о судьбе провинциального писателя проскальзывает и надежда. У Свифта хоть и каменное сердце и хоть в Дублине, но памятник всё-таки есть – и «маленькая девочка, лёгкая, как облако, принесла к его ногам букет полевых цветов…» И слепой юноша под окном, возможно, ищет именно разбуженного дворником писателя. Граничащее с упрямством упорство и решимость продолжать начатый путь просматриваются в «Языке огня», где автор, без сомнения, сопоставляет себя с огнепалым протопопом: «…а ведь остёр телесным умом был, при царе жить звали, но веру истинную не продал…». Гордыня, конечно, однако и Аввакум при всём его самоуничижении про себя не что-нибудь, а «Житие…» писал. И пускай «был брошен в огонь, как черновой лист», по молве «из пламени выпорхнул голубь, а кострище вскоре затянуло белым нездешним песком…» И великим не спонсорам, но торговцам, коих вместе с великими художниками рождает время, Телков воздаёт хвалу – в лице крупнейшего из парижских маршанов Амбруаза Воллара. «У этого креола с острова Реюньон был отличный художественный вкус от природы… Молодой Воллар своим звериным чутьём просто угадал время, когда импрессионисты принесли достаточно жертв, и чаша весов готова была качнуться в их пользу…». А пожилым на фото, по мнению Телкова, был похож на старого ягуара, который «дремал, охраняя своё богатство. Возможно, во сне он легко взлетал над травой и ловил розовых бабочек мягкими лапами…» («Порхание розовых бабочек») Но жизнью, оставшейся до осуществления этих надежд, ещё надо правильно распорядиться. И именно дома, ибо где-нибудь в райской Полинезии твои «мученические поэтические подвиги» не нужны, «а в Тагиле ты – уважаемый человек». Надо только, день за днём видя «местные фаллические символы в виде торчащих в небо дымных труб, которые никак не способствуют деторождаемости тагильчан», ощущая, как «тебя дожёвывают быт, безденежье, грызёт язва и коченеют ноги в дырявых сапогах» – сохранить способность к творчеству. Упоминание в «Письме тагильскому поэту», одновременно окрещённом «Основами полинезийской сексологии», не только Миклухо-Маклая, но и Поля Гогена формально продолжает тему импрессионистов. Однако на самом деле последнее эссе «Обеда у Александра Васильича», спуская читателя с историко-литературных и живописных небес на грешную уральскую землю, обнаруживает ту самую особенность прозы Телкова, которую он противопоставляет железной тагильской брутальности – эротизм. «Я создаю миф…» В чуть более давние времена, которые, считается, были целомудреннее нынешних, Телков наверняка заслужил бы звание охальника. Настолько пристально всматривается он в отношения мужчин и женщин, настолько детально, подчас до физиологических подробностей, их временами живописует. Между тем по временам сегодняшним эти описания, встречаемые, скажем, в сборнике рассказов и пьес «Женщина в дорогу» (Нижний Тагил, 2011), выглядят вполне целомудренно. Ну, что такого непристойного, например, в картине острой грудки, что выпала «из распахнутого ворота солдатской ночнушки» (приметная деталь времени) у спящей юной тёти ещё более юного рассказчика? «Она была бледной, с голубыми прожилками вен и коричневатая на конце, будто угодившая в какао или перепачканная в шоколаде… Потом я совсем осмелел и – нет! – не руками, а уголком одеяла тронул коричневое пятно на груди… пятно сморщилось, потемнело, а посредине проклюнулся красноватый, величиной с горошинку, сосок. Грудь с розовым носиком напоминала мордочку резинового дельфина, моей детской игрушки…» («Нос резинового дельфина») Непреклонно минует Телков все богатые возможности соскользнуть в сексуальный трэш и в описании любовного свидания, которое командир роты устраивает в казарме. Ну, не посреди казармы, понятно, а в комнате своей. Но как тонка перегородка, которой отделена эта комната от общего помещения, где в это время спят, а точнее пытаются спать почти полтораста молодых солдат, «более полугода видевших женщин только по телевизору»… «Все дальнейшие стоны, горячечный шепот и вскрики по ту сторону двери были восприняты солдатами в тишине и неподвижности, их тела окаменели, слух напрягся до предела, почти до надрыва… Если бы любовники знали, на какой пороховой бочке они занимаются любовью, то, возможно, вели бы себя более сдержанно…» («Подводная одиссея капитана Новикова») Но и здесь автор даёт волю не собственной, а читательской фантазии, вновь одной деталью – кучерявым девичьим волоском – разряжая в утренней развязке почти до осязания сгущённую ночную атмосферу. Жизнь мужчины Телков представляет как ряд соприкосновений с женским телом. Хотя нет, не будем упрощать. За этими касаниями – целая история отношений с женщинами, которая, по мнению лирического героя, составляет суть любой биографии. А упор на тактильность оттого, что герой этот – мужской пиджак, последовательно теряющий свою потребительскую стоимость и доходящий до состояния тряпки, которой «чересчур скупой житель местной деревушки… заткнул… отдушину в погребе». Теперь его трогает мышь: «…часто ловлю себя на том, что в ней, мягонькой и тёплой, есть нечто такое, что напоминает милые моему сердцу создания…» Идея изложена, теперь читатель этих строк может предположить сам, кто и как предшествовал мыши, а потом сравнить придуманное с текстом рассказа «Жизнь одного пиджака», ставшего заглавным для сборника 2004 года, где впервые был опубликован и «Нос резинового дельфина». Чувства телковская женщина способна пробудить и в старом мобильном телефоне: «…какой он сексуальный: длинный, гладкий, уверенный такой и в руке хорошо сидит… И на ощупь приятный…» Признания мобильник шлёт эсэмэсками и умирает именно от любви, а вовсе не от полного разряда батареи: «У него там, внутри, все схемы сгорели… инфаркт, инсульт под одной гробовой крышкой. Мертвее не бывает…» («Может быть, люблю…») Простор для воображения сулит и заглавие «Женщина в дорогу». Однако здесь провокация оказывается обманкой – речь идёт лишь о пассажире, который весьма своеобразно коротает дорожное время: «…незаметно наблюдая за сидящей напротив незнакомкой, я пытаюсь определить ей возможное место в своей жизни… Я создаю миф… Идеальными партнёрами для моей игры служат дамы бальзаковского возраста, они – как свежий детектив известного мастера этого жанра: вроде и не читал, но уже знаешь, что скучать не придется…» На всю жизнь, по словам героя, ему запомнились поездки с женщинами, которых он про себя назвал гадким утёнком и купчихой, с юной казашкой и с Женщиной С Прошлым, «которой есть, что забыть, и с которой хорошо молчать обо всём…» Вот, собственно, и всё – «…хобби, развлечение, коллекционирование бабочек-сюжетов, попытка представить жизнь по-иному, ненадолго выйти за пределы – желание не более опасное, чем творчество некоторых господ сочинителей». Но такая игра и вправду обладает своеобразным эротическим привкусом. Более или менее явно этот привкус, призвук, запах, подтекст обнаруживается и в других историях, питаемых не слишком расцвеченной повседневностью – будь то перемывание костей мужьям и любовникам в женском коллективе после празднования восьмого марта («Вчерашний торт»), возвышенные любовные связи или будничные супружеские размолвки и адюльтеры («Ногти», «Марина», «Три рассказа»). В телесной любви к молодой женщине черпает чувство полноценной жизни стареющий мужчина («Уроки геометрии»), однако ветреный старик по-прежнему смешон («Копьё Чингисхана»). Троим сотрудникам некоего колледжа – Травушкину, Виолетте и Себастьяну Ивановичу – подняться над суетой помогает романтический интерес к истории. Правда, ночная попытка устроить прямо в учебном корпусе костюмированную, да ещё и факельную инсценировку дворцового переворота заканчивается вызовом пожарных и милиции: «Бдительный жилец через полевой бинокль разглядел на безумцах странные одежды, но более всего его поразили выкрики, которые безумцы производили в распахнутые форточки, по-видимому, наслаждаясь акустикой глухого двора. Они кричали: «Да здравствует император Пётр III! Смерть заговорщикам!» А вот уход Виолетты к Травушкину от изменившего ей мужа сопротивления в окружающей среде не вызывает. Впрочем, не факт, что он обозначен какими-либо внешними атрибутами. Возлюбленный «…стоял у дверей её дома навытяжку, как часовой, как стойкий оловянный солдатик. Треуголка наползла на уши под тяжестью снежного сугроба, но Травушкин словно не замечал этого…» Да и была ли на нём эта треуголка? Главное, что «почти засыпанный снегом горбатый «Запорожец» становится в его глазах и устах королевской каретой. И для такой искренней романтики уже никаких эротических дополнений не требуется. Рассказ этот – «Карета подана» – в сборнике отнюдь не последний. Но именно в нём, как и в предыдущей книге, можно увидеть переход к следующей. Освоив свифтовскую иронию и мопассановский эротизм, которые в их синтезе так и хочется назвать эронией, и смешав их с современным литературным и общегражданским бытом, Телков присоединяет к ним новый пласт – исторический. Правда, отнюдь не столь отдалённый по времени и территории… «За детство счастливое наше…» К ближней истории – собственной – Телков обращался ещё раньше. Именно среди рассказов о детстве, сведённых в книгу «Имя от пришельца» (2009), он повторил «Нос резинового дельфина». И там же в «Историях болезней, колдовства и врачевания» представил довольно обыденное объяснение своего мопассанства. Всё мама-фельдшер, которая, хотя и «шугала меня из комнаты, когда по телевизору показывали невиннейшую советскую эротику…, не видела ничего стыдного и запретного в гинекологической литературе…» Так что «где-то на втором-третьем году подпольного изучения акушерства и гинекологии я почти перестал видеть в женской физиологии что-то стыдное…» В целом же в сборнике 2009 года эротические мотивы не выходят за рамки отрывочных воспоминаний о некоторых эпизодах пубертатного периода. А сама книга повествует о весёлых и горьких историях детства и юности, что пришлись на 1960-70-е годы. Горечью, к примеру, отдаёт заглавная и первая, по словам автора, «в моей жизни дурацкая история» о том, от кого и как получил он своё имя – едва ли не свинское, поскольку Борьками в те времена почему-то предпочитали нарекать поросят. Оказывается, от лёгкого на язык и разбитного «Пантагрюэля с Дона» – недолгого «как бы мужа» отцовской матери, с которым она неожиданно приехала в Тагил из-под Воронежа. При этом «трогательной встречи матери с сыном не произошло – ни объятий, ни счастливых слез, ни поцелуев…» Ибо рос отец у бабки с дедом, в том числе под немцами в оккупации, «а после смерти стариков угодил в детдом, откуда бежал, а потом бродяжничал. Мать тем временем в одиночку поднимала троих дочерей – муж, сделав ей последнего ребёнка, утонул по весне, когда перевозил муку через Дон по хрупкому льду… Грустная история, в которой никто не виноват…» Со вкусом выписывая приметные бытовые детали, автор создаёт яркую мозаику жизни пригородных тагильских посёлков того времени («Таким я уже больше не буду никогда», «О свалках и находках»). Вроде и тогда ссыльные да эвакуированные со своими потомками не были хозяевами жизни: «…Государство возводило для себя домны, а из ненужных остатков этого строительства люди лепили свои жилища. Возле собачьей тарелки всегда найдут прокорм несколько воробьёв…» И не от сильно щедрой жизни они бесстрашно искали на шлакоотвале годное для хозяйства добро: «Зимой, когда в пять часов вечера уже наступали сизые сумерки, …зрелище с огненными разрывами шлаковых ядер напоминало панораму какого-нибудь сражения времен Бородина и Аустерлица… эта феерия с канонадой… мужиков, видевших войну в натуре, …оставляла равнодушными…» Но именно здесь, утверждает вместе с героем автор, прошла «добрая и самая вкусная по ощущениям часть моего детства». Тут же «у остывшей шлаковой лавы… ребятня знакомилась меж собой – встреча на свалке кого-то сделала друзьями на всю жизнь, были и такие, кто впервые повстречал здесь свою будущую супругу…». А на другой свалке, городской, дети, «знавшие график завоза мусора лучше расписания уроков», ощущали себя «следопытами, исследователями сора из избы, знатоками тайной жизни большого города…» Теперь, в отличие от того времени, уже без опаски можно признать: «Самогон гнали дружно, всем посёлком дня три, строго по ночам… Нынешнее поколение городских пацанов, задвинутых на петардах, наверняка даже не может себе представить, с каким грохотом взрывались ночью подогретые на печи бутыли с бражкой…» А этикетки со спичечных коробков, как сейчас помню, мальчишки собирали не только в Тагиле. И хлебосольные клановые сходки по праздникам были в обычае не только там: «До сих пор не могу понять, как мы умудрялись съедать то несметное количество пирогов, которые выпекала бабушка!... Народ не щадил ни своего желудка, ни печени, ни сердца, а из праздника выходил тяжело и с большими потерями, как из окружения…» Да и теперь кое-что от тех обычаев осталось. Что же до бытовых отходов – Телков, даром что прозаик, как бы перекликается с известной ахматовской строкой о соре, из которого растут бесстыжие стихи: «…Столь неприличное, но незаурядное соседство со свалками… поддерживало моё воображение в постоянном… поиске… я стал сочинять, то есть видеть то, чего нет. Нет вообще или просто завалено мусором…» Вроде бы из той же неудоби – тётка автора-героя Наталья, что «была коренастой, грубой от застенчивости девахой с плоским азиатским лицом» и «зарабатывала себе на независимость от всех тем, что набивала песком какие-то формы в заводском подвале». И зарезал её ночью сожитель, забрав все деньги и украшения. А между тем она «тонко чувствовала поэзию, хорошо рисовала» и, «обливаясь слезами, смотрела балет по телевизору…» («Мой дядя – Синяя Борода»). Вроде бы в отношениях с двоюродным братом Вовкой особой любви никогда не было: «…когда судьба сводила нас вместе, эта встреча заканчивалась как-то не очень хорошо, и, что самое обидное, всегда для меня…». И сидел он за тунеядство, и пил до цирроза печени, и сестёр «кинул» с родительским наследством, и брата теперь в упор не видит – не желает. А ощущение родства осталось: «…Мы оба любим жизнь, цепляемся за неё, жаждем ощущений, удовольствий, только Вовка проявляет свою страсть к жизни в реальном мире, а я – в бумажном, выдуманном…» («Владимир Ильич Серафимов») Частности, кажется, а через них опять пробивается время: «Мой дед был живуч, как полевой злак… В начале тридцатых годов оба рода, бабушкин и дедушкин, включая их самих и родившуюся дочку, раскулачили и сослали на Урал… Переход от достатка к полной нищете так впечатлил молодого деда, что впредь он уже никогда не завидовал чьему-то благополучию, а смотрел на него как на временное явление…» («Истории болезней, колдовства и врачевания») О канонических литературных образцах своего времени напоминает и поступок матери, которая, окончив медучилище, уехала на Приполярный Урал и оказалась там единственным на сотни вёрст специалистом, так что «всю живность от оленя до престарелого охотника-манси доставляли к её избушке-медпункту». И через год, перенеся на ногах сильнейшую простуду, дослужилась до сердечной болезни, ревматизма и даже общего заражения крови. Но поначалу, отказавшись от инвалидности, ещё работала в Тагиле фельдшерицей поселковой больницы. Однако и в такое время человек ни дня, даже самого печального, не проживает без насмешки: «Дед на два дня пережил генсека Брежнева, но хоронили их в один день… Разделённые многокилометровым расстоянием, огромной толщей земли, глава государства и уральский рудокоп обменялись стуком гробами. Так заключённые в тюремную камеру перестукиваются меж собой…» Для ухода матери, впрочем, рассказчик избирает другую ассоциацию, согласную с её странным именем – Литалия – и пальцами, которые она сжала в последний миг: «Так со скрюченными лапками умирают птицы…» А, приходя к сыну во сне, она по-русски повторяет предсмертную фразу любимого ею Чехова… Сон оказывается и формой существования отца, который «умудрился проспать свою земную жизнь». На этой фразе рассказу «Человек-сон» вроде бы и закончиться, но продолжение, конечно же, открывает читателю, что жизнь прошла отнюдь не в летаргии. «…горя он хапнул ту же пайку, что и всё его поколение, рожденное в коллективизацию, частично или полностью потерявшее родителей в тридцать седьмом и обмакнувшееся своим детством в дёготь войны… Так как мама часто болела…, кроме мужской работы в нашем большом доме выполнял и женскую… зачастую после ночной смены. Поэтому… засыпал сразу же, как только куда-нибудь присаживался…» И столь же весомо рассказ опровергает другое исходное утверждение, что «отец не передал мне никакой своей мудрости, ни одна фраза, ни одна мысль его не осталась в моей памяти...» Слов повествователь и вправду не припоминает, но из поступков, судя по всему, перенял многое… Всякое, словом, бывало. Так что вместе со многими ровесниками, услышав давнишнее «За детство счастливое наше спасибо, родная страна!», Телков если и подпоёт, то отнюдь не всерьёз. Однако юмор во фразе психолога Эриксона «Никогда не поздно иметь счастливое детство…», которую выбрал тагильчанин в качестве эпиграфа к «Имени от пришельца», отнюдь не выглядит чёрным. Многие рассказы о детстве и родителях он повторил в 2012 году в уже упоминавшихся «Штанах с большой буквы». В том числе – совсем восходящий от бытовых подробностей до щемящей душу философской образности «Мои дома на земле», в завершении которого родной дом, перешедший в чужие руки, строительным мусором опадает в кузов «КамАЗа», а на дороге остаются кусочки розовой и голубой штукатурки… Живые картины времени, знакомые всем, кто в детстве и юности с такой же страстью мечтал о модных штанах – сначала клешах, а потом джинсах, рисует автор в заглавном рассказе. А дальше, естественно – во всяком случае, для человека, избравшего такой жизненный путь – армия. Вошедшая и в этот сборник «Подводная одиссея…», пусть и дополненная рядом ярких деталей казарменного быта, остаётся, на мой взгляд, в прежнем эроническом русле. «Как я убил своё дитя» и «Жрецы любви» повествуют о попытках героя сохранить не только, как отмечалось выше, литературный дар, но и человеческие чувства и достоинство. Самым же образно и ментально сильным в этом небольшом цикле представляется рассказ «Крыса». Продолжая, казалось бы, уже отработанную другими авторами тему армейской дедовщины, Телков представляет здесь собственный снимок животной сути человека, который оказался на нижней ступени едва ли не стайной иерархии. Самый забитый и отупевший военный строитель рядовой Сегин, обнаружив более слабое существо – загнанную в западню крысу, наслаждается её убийством. И оживает – но лишь на это время: «…по мере того, как с его лица сходили красные пятна возбуждения, оно вновь принимало прежнее тупое выражение…» Темноводские хроники В последнее время Телков, по его собственному признанию, «подсел» на краеведческую тематику. Начиная с 2001 года, с его писательского конвейера сошли творения о 300-летнем и тоже демидовском Невьянске, уральских золотоискателях, истории тагильского образования, спорта, дореволюционной фотографии и санитарно-эпидемиологической службы Свердловской области плюс статьи для пары десятков коллективных сборников об истории Урала и Нижнего Тагила. Лучшие образцы этого жанра стоят авторам немалых усилий и вдохновения. Пусть, например, отдельные эпизоды исторических очерков «Педагогика по-демидовски», составивших первую часть пятитомника «Успехи разума», Телков, по его словам, теперь встречает едва ли не в кандидатских диссертациях. На самом-то деле он и его соавтор Алексей Коряков писали их для публики широкой – и в качестве представителя таковой могу подтвердить, что результат получился вполне удачный. «Артельские истории» же и «Записки отдыхающего», рассказывающие, соответственно, про золотодобытчиков и Невьянск, Телков чуть позже и вовсе включил в книгу очерков «Тагильский Криуль» (2004). Говорят, что один из историков назвал избранную для неё автором форму изложения «краеведческим хулиганством». Может, в том числе за такие вот афористические высказывания, которые открывают часть, посвящённую непосредственно Тагилу: «Наш город – впадина, заполняемая народами в период бедствий… В Тагиле живут с ощущением мирового сквозняка. Так тянет из неплотно закрытой форточки… Мой дед въехал в неведомый ему Нижний Тагил в скотном вагоне. Отец притопал сюда в кирзовых армейских сапогах…» А дальше – совсем наотмашь: «Лично я, увы, так и не определился в свой любви к городу. Мы в большинстве своём – дети ссыльных или вербованных, насильно выданных замуж или женившихся по расчёту. Мы с рождения были привязаны к городу, притянуты за пуповину к сторожевой башне на Лисьей горе…» По мне такой вот патриотизм втрое ценней любого пафоса. А сами очерки, на мой взгляд, представляют собой неотъемлемую часть телковского, рискну сказать, литературного наследия. И небольшие сборники 2013 года «Человеки» и «Блёстки» – тоже. Благодаря им, а ещё очерку «Эйфелева башня Тагила» (2006), который повествует о той самой Лисьей горе, бывшее имя одной из улиц – Тагильский Криуль – перекочевало в название целой книжной серии. Золотоносный исторический песок Телков едва ли не по-кулацки предпочитает промывать до самой последней крупинки. Уже вроде и мельче мелкого – блеск один, и тот под микроскопом разглядишь едва. А на то писателю и фантазия дана: что не разглядит – домыслит. Отсюда же берёт он сегодня и стройматериал для своего Темноводска, в коем опять же вполне прозрачно угадывается железная родина автора – как-никак уже само имя Тагила и реки, от которой он его получил, в переводе с языка манси означает «много воды». Впрочем, темноводские хроники первых десятилетий XX века, представленные, если не считать журнальных публикаций, в сборниках «Женский облик Свободы» (2012) и «Путешествие блаженного фотографа» (2015), отнюдь не разжижены и по-прежнему полны занимательности и всех прежних особенностей, которые характерны для других телковских книг. Глаша Ерохина («Лесные ягоды») открывает для себя стыдные взрослые тайны в одиннадцать лет, тайно наблюдая за лесными свиданиями, которыми взрослые девки расплачиваются с рудничными смотрителями за снисходительность к их небрежной работе. Но рано взрослеет девочка отнюдь не поэтому. Она ведь и сама после пьяной и страшной смерти отца вынуждена собирать вместе с другими детьми для завода «железные камешки», помогая осиротевшей семье. И выводы делает совсем о других человеческих отношениях. «…она пришла к неожиданному заключению: когда мужик с бабой остаются вдвоём, да ещё раздетые, совсем не важно, кто из них беден, а кто богат. Более того, бабы в этом случае имеют даже власть над мужиками…» Оказавшись затем в доме одного из самых успешных и чудаковатых торговцев Темноводска купца Шамина и с годами забирая власть над ним, именно этим гендерным законом Глаша вроде бы и руководствуется. Но это если со стороны глядеть. Читатель же, благодаря автору наблюдающий за развитием событий изнутри, видит: выросшая девушка просто оказывается тем человеком, к которому со временем прикипел овдовевший хозяин. И как честный человек наверняка бы женился, когда б не вор, то ли по собственной воле, то ли по чужому наущению ставший убийцей… Вроде бы телесные прегрешения в лесной тени, тем более с меркантильной подоплёкой, мезальянс, а тем более убийство, заказчиком которого, не исключено, является старший сын благодетеля – дела вполне житейские. Но почему-то уже этот рассказ, объёмом и перипетиями похожий на маленькую повесть, вольно или невольно напоминает о раннесоветских текстах про классовую борьбу – и подспудно оппонирует им, противопоставляя этой борьбе любовь. Впрочем, главный вклад в это ощущение вносят другие рассказы, зачастую столь же подобные повестям. Годы предреволюционные, и, хотя конфликт полицейского пристава и одновременно графомана Землевича с темноводской прогрессивной интеллигенцией («Искусство рифмы и сыска») во многом определяется его ревностью к любовным и поэтическим успехам молодого чертёжника Васи Калиновского, здесь находится место и политике: соперника арестовывают жандармы за транспортировку нелегальной литературы. Пристав при этом великодушно «снял с себя тулуп и набросил его поверх ветхого пальтеца поэта…», перекрестив отъезжающую повозку. И снова к нему возвращается рифма – в отличие от покинувшей его актрисы Нинель, которая со временем из львицы превращается в «тупую закормленную болонку». И самому ему, стареющему, хочется любви и счастья, но утешается он порнофильмами, что специально для него крутят ночью в одном из двух местных синема. Впрочем, об этом повествует уже продолжение – «Грёзы-слёзы». Что владеет этим синема старовер Ермилов – лишь один из многих признаков крушения прежнего мира. Идёт война, потом отрекается царь – и, в конце концов, пристав, долго оплакивавший разлуку с любовницей, умирает под забором в Шанхае. А случайно открытое новое месторождение меди, которое желал заграбастать местный купец, «почти семьдесят лет верно прослужило советской власти и иссякло, сошло на нет вместе с самой властью» – это уже едва ли не бажовская нотка проскальзывает… Но самым охальным – причём не с половой, а с политической точки зрения – в годы той же власти наверняка сочли бы «Белую пуговку». Ибо в этом рассказе-повести Телков спускает с небес на землю одно время едва ли не священный образ главного уральского большевика товарища Андрея, то бишь Якова Михайловича Свердлова. С другой стороны, что здесь такого? Ну, понравился зашедшей на маёвку Стеше большевистский трибун: «…Оратор был худощавого телосложения, но голос имел сильный и упругий… Тонколицый, с чёрными усиками и длинными кудрями. Особенно хороши были пронзительный взгляд и время от времени промелькивающая белозубая улыбка…» Ну, именно на Стешу выбежал он, когда жандармы разгоняли митинг. Ну, свободного нрава была девушка, но так уж она для себя решила: «…пусть чья-то содержанка, любовница, но не заштампованная законным кулаком жена заводского работяги…» В общем, любовной парой жандармы не заинтересовались. А рождённого в итоге ребёночка Стеша приписала инженеру, которому в то время прислуживала – да так убедительно, что вместе с инженером и сама в это почти поверила. Тем более что единственной памятью об истинном отце осталась та самая белая пуговка, в порыве страсти откушенная с его косоворотки. И что бы ни происходило со Стешей, эту пуговку она хранит вместе с мечтами о возвращении Андрея, который «…возмужавший, с седыми висками, в кожаной тужурке будет выступать… перед жителями посёлка… Стеша с дочерью проберутся в первые ряды… Слёзы подступят к его глазам…» Даже после того, как в честь почившего большевика соседний Екатериноград по просьбе трудящихся переименовывают в Андреевск (аллюзии со Свердловском прозрачней некуда), «товарищи наверху» стремятся сохранить биографию вождя безупречной. И надеяться уже вроде бы не на что. Но пуговка всё-таки пригождается: как символ надежды на новую жизнь и залог исполнения этой надежды Степанида пришивает её на косоворотку своего нового мужчины. В таком вот кратком изложении фабула весьма походит на анекдот. А по сути – ещё одна история женщины, которая желала себе и дочери счастья независимо от противостоящих тому общественных условий. И как минимум благодаря этой надежде история чуть более счастливая, нежели попытка паровозного машиниста Селиванова обессмертить солдатскую вдову Марусю, заменив её статуей памятник Александру Второму на базарной площади Темноводска («Женский облик Свободы»). Натуру, в которую влюблён скульптор-самоучка, отнимает учитель Зябликов, статую разбивают на куски колчаковцы. Незадолго до смерти Селиванов успевает сделать второй вариант – из глины, взятой со дна могил, которые он, пройдя пытки, копает для замученных теми же колчаковцами. Но сделанное по этому образцу гипсовое изваяние позже признают лишь копией известной статуи Свободы, что в Нью-Йорке, и ставят на его место «новый вариант… – многометрового величаво-сурового Сталина в распахнутой шинели…». И только самой Марусе, когда она, добравшись до США, видит оригинал, кажется, что она «получила весточку из родного дома» – и уж, конечно, не потому, что статуя эта покрыта листами тагильской меди. Так что на более привычные у других авторов истории о том, как революция сокрушает людские судьбы, походит разве что «Холодно, братцы!» – короткий рассказ о том, как прозорливый благодетель предупреждает невьянского купца-сундучника Селянкина: схоронись. И вроде по-человечески относится купец-старовер к своим мастерам, а всё равно неизбежное надвигается. И когда происходит – купец кладёт голову на рельсы перед приближающимся поездом… Зловещей и в то же время пародийной выглядит фигура чернявого и белозубого товарища Баха, сбивающего из, что называется, ярких представителей прогрессивной и рабочей молодёжи группу террористов («Путешествие блаженного фотографа»). Группе нужны химикаты для бомбы, однако на фоне соответствующих детективных перипетий разворачивается новая по-телковски эроническая история человеческих взаимоотношений. По заглавию понятно, что этот рассказ Телкову навеяло погружение в историю фотографии. А занятия историей тагильского учительства вкупе с биографией одного из реальных персонажей, судя по всему, навели на желание по-иному посмотреть на плоды просвещения. Ибо неграмотный передовик Яшка Собакин, который одно время устанавливал свои законы кулаком, вдруг догадывается, что умение писать куда следует обеспечивает намного более надёжный путь к власти («Мартин Иден из Темноводска»). А на фоне – вновь детективная и любовная истории. Кержацкое происхождение многих темноводцев (как, естественно, и тагильчан) оказывается весьма существенным для развития событий в рассказе «Мытьё полов на ночь», сюжет которого развивается вокруг постановки в рабоче-крестьянском театре пьесы о духовном возрождении юной проститутки. Поди найди исполнительницу на главную роль. Но и увернуться нельзя – идёт кампания борьбы с проституцией, к тому же на премьеру уже приглашено екатеринградское начальство… А оканчивается комедия провинциальных раннесоветских нравов опять неожиданным поворотом, который и впрямь открывает способность к искреннему чувству даже в, казалось бы, напрочь загубленной душе. Безумству храбрых… Иронизировать по поводу судьбы литератора, тем более творящего в провинции, Телков при этом отнюдь не бросил, о чём свидетельствует книга «Господин ясновидящий», вышедшая в 2013 году. Вместе с рядом других давних рассказов из «Обеда у Александра Васильевича» под новым заголовком «Престранный гость» он включил в неё историю о приходе к писателю Борису Валёгину странного посетителя, который представился его биографом. Как бы вы повели себя на месте героя, узнав, что лезущий в дверь незваный гость желает поселиться в одной из комнат? Однако терпение вознаграждается: впустив нахала, Валёгин узнает, что тот и впрямь написал его биографию. А на жилплощадь претендует лишь потому, что ему надо прослыть другом прославленного писателя. Тогда будут верить и написанному, и его автору, который благодаря этому тоже прославится. Паразитировать гость вынужден, поскольку «для славы нужна хоть щепотка таланта» – литературного, который у него отсутствует. А от подопечного требуется теперь лишь одно – подчиниться его советам да помереть в нужное время, как в этой биографии уже описано: «Летом! Пренепременнейше летом! В морозы люди желают сидеть дома, боятся простуды. А на ваши похороны я собрал море цветов и поклонников таланта, вы просто поплывёте, захлестываемый ревущими пестрыми волнами, гордый и равнодушный… Это же поэзия, а не смерть!!!» К воспроизведённым полуфантастическим «Помидору», «Лимону» и «Одинокому» автор в этой книге добавил короткую реплику на Дафну Дюморье и Альфреда Хичкока. Если у тех в рассказе и в кино чайки нападают всерьёз, то атака телковских птиц, хоть и рождает ощущение нарастающей угрозы, оказывается просто шуткой («Птицы»). А вот ошибка хозяина магазина, продающего секонд-хенд, похоже, становится роковой. Приметив, что вместе с ношеными вещами покупатели приобретают и судьбу их прежних владельцев, он предлагает случайному посетителю пиджак с плеча явно благополучного человека. Да вот беда – не заметил заштопанной маленькой дырочки под левой лопаткой («Господин ясновидящий»). А за писателем Колпаковым и вовсе открыто гоняются бандиты. Ибо, как свидетельствует эпиграф «Моим друзьям из 90-х», действие паноромана «Сшит колпак…», героем которого он является и который впервые был опубликован в 2004 году, в те самые 1990-е и происходит. «Панороман» – это, разумеется, телковский каламбур, и созвучия к этому слову в голову лезут всякие. Но самое основательное из них – видимо, всё-таки наименее провокационное, поскольку по ходу бегства героя автор действительно представляет своеобразную панораму жизни тех лет. Здесь тебе и прожектёры из инженеров, и нувориши, и люмпенизированная богема, и провинциальные журналисты с графоманами, и фестивалящие на природе барды, и пассажиры электрички, и деревенские, говоря по-нынешнему, дауншифтеры… И любовным сценам, конечно же, место находится. «…Если посмотреть на литературу глазами повара, то рассказ – это диковинное блюдо из ядовитой рыбы, где точное соблюдение – грамм в грамм – пропорций дает великолепный вкус, а малейшее их нарушение превращает блюдо в смертельную отраву. Роман с кулинарной точки зрения – пицца, эдакое продуктовое ассорти, всего понемногу…» Поскольку сие кулинарное высказывание принадлежит Колпакову, Телков от приверженности такой рецептуре вполне может отречься. Однако и здесь персонаж вряд ли далёк от автора. Во всяком случае, собственный герой Колпакова по фамилии Каблуков неотрывно следует за своим создателем. Так что и мы вправе увидеть в этой цитате подтверждение тех ощущений, которые пробудил «панороман». Путешествие героя – один из традиционных писательских приёмов. Но если сыгравшему такую роль в судьбе автора Жюлю Верну он удавался и не раз, то здесь целый ряд по-телковски блестяще выписанных новелл и сцен в единое целое, по-моему, запечься не смог. Зато, похоже, вполне удалась завершающая книгу 2013 года пьеса «Я – не умер!», которую один из фантастических сюжетных ходов, столь же свойственных Телкову, превращает в весьма занимательный и весёлый фарс. И если публиковавшиеся ранее и основанные на впечатлениях от писательской жизни «Вавилонская история» и «Мечтаю о встрече!» представляются более пригодными для чтения, то третий драматургический опыт может оказаться интересным и для сцены. О пригодности для постановки, впрочем, пускай рассуждают режиссёры. Мы же просто отметим, что прозаическое обращение к самодеятельному театру, предпринятое автором в «Мытье полов на ночь», выглядит вполне закономерным. Тем более что книга 2015 года тоже завершается пьесой под названием «Милый Ги». Фамилия этого Ги уже упоминалась, да и перелицовка в названии вполне узнаваема. Не появиться собственной персоной Мопассан у Телкова просто не мог, и даже странно, что произошло это только сейчас. Впрочем, непосредственно с событиями пьесы, продолжающей историю Темноводска, его фигура не связана. Просто один из персонажей передаёт племяннице второго, своего друга, свежие журналы с произведениями француза. Но в грустном финале нравственное падение девушки определяется совсем другими обстоятельствами. В «Милом Ги» автор как будто продолжает убеждать всех знакомых и неизвестных ему оппонентов: молодёжь развращают отнюдь не описания телесных отношений между мужчиной и женщиной, если они, конечно, не сводятся к голой физиологии. Благие юные чувства и порывы разбиваются о вероломство – или о ложь собственных, кажущихся высокими целей, плата же за прозрение слишком высока. Хотя сцены с участием Мопассана, которые представляют его в различные периоды отнюдь не ровной, а в конце просто трагической жизни, всё-таки заставляют задуматься и об ответственности писателя и просто человека – как перед самим собой, так и перед теми, кто прислушивается к нему. Вплетая суровые нити серьёзных эмоций и размышлений в лёгкую и нередко фривольную ткань своего повествования, рассказчик, похоже, слегка всё-таки стесняется такой смеси: «Удивительно и даже стыдно признаться, что… судьбоносными для меня книгами порой оказывались не произведения серьезных классиков, не труды по философии или психологии, а обычная литературная попса, развлекаловка. Все читали, им ничего, а меня зацепило и повело…» («Вмешательство богов») По собственным ощущениям Телкова, в Тагиле его считают авантюристом. Что ж, это и впрямь авантюра – в период низвержения литературы с общественного пьедестала в не слишком-то погружённом в художественную культуру, хотя и не абсолютно далёком от неё городе посвятить всю свою жизнь именно писательству. Причём не графоманскому, а качественному, с ориентацией на лучшие образцы. И – без особой надежды на признание за пределами малой родины. Году в 2012-м Телков, по его словам, предпринял поход по столичным издательствам. Ответом были молчание или стандартные отписки. Разочарование писателя можно понять, но как минимум в одном лично я понимаю и этих издателей. Ну, в какую серию вставить эти темноводские и прочие телковские истории? В «чистую» эротику не пойдёт – сексу на самом деле маловато, в исторические или детективные тоже. Вроде, отчасти похоже на ещё одного Бориса – Акунина. Известный российский социолог культуры и тоже тёзка Борис Дубин ещё в начале «нулевых» предрекал, что акунинские последователи и подражатели будут и впредь пытаться соединять стереотипы остросюжетных жанров с традициями «хорошей литературы» и обращением к дореволюционной отечественной истории. Однако тагильский Борис божится, что за собственными хлопотами Акунина даже не читал. Что ж, может, и впрямь совпало. К тому же, если присмотреться, не события имперского масштаба ему важны, а любовь, которая позволяет даже искаженному обстоятельствами человеку сохранить или возвратить свой человеческий облик. В общем, ни в какие рамки не лезет, голимый неформат. Ну, а ежели столицы не принимают, остаётся творить собственный мир и формат в своей округе. Тем более что округа величиной с иное европейское государство будет. Да и какой город ни возьми – разве не сходятся в нём, не проявляются все особицы нашей отечественной жизни? Так или иначе, а теперь, похоже, Телков окончательно утвердился в том, что филологи на своих конференциях именуют творческой стратегией: писать и издавать книги в своём Тагиле – пусть небольшими тиражами, но для имеющейся-таки у него стабильной аудитории. Причём и скорость такую – по книге в один-два года – набрал, как если бы подписал долгосрочный контракт с издательством. И даже, говорит, окупаются… Но при этом каждая книга, по его словам, остаётся результатом уникального стечения обстоятельств: душевного состояния, возраста, меняющегося людского окружения. Так что, беря в руки «Обед у Александра Васильича» или «Женщину в дорогу», сегодня сам удивляется: неужели это я написал? В невольной приверженности такой стратегии он отнюдь не одинок – вспомнить хотя бы ушедшего в 2008 году уникального Александра Чуманова, который среди прочего похожим образом живописал родную Арамиль, поименовав её Изергилью. Теперь этот городок, даже войди он в черту разрастающегося Екатеринбурга, останется впечатанным в литературную карту Урала. Но дело опять же не в таком увековечении, а в способе реализовать себя, невзирая на качество времён, доставшихся тебе от родителей. Чумановым и Телковым список таких авантюристов среди уральцев, безусловно, не исчерпывается. Да и в других нестоличных регионах те авторы, что не лезут в прокрустово издательское ложе заведённой на Москву массовой литературы, пропахивают нынче собственные борозды. Не от хорошей на самом деле жизни, к тому же неясно, не прервётся ли ими отнюдь не длинная череда поколений профессиональных литераторов, которые выросли и остались в глубине России в XX веке. Кто из нынешних молодых окажется способным на подобную самоотверженность, долгое дыхание и стремление к культурным вершинам? У Телкова запасы терпения, здоровья, вдохновения и, что немаловажно, сюжетов, похоже, ещё велики. Возможно, его читатель, да и сам он после «темноводского» цикла, находясь в расцвете лет и сил, захочет чего-то нового – ещё более глубокого по мысли и пронзительного по ощущению. Впрочем, пространство, казалось бы, заштатного городка и для этой цели может оказаться неисчерпаемым – равно как и натуральный железный город-первоисточник для самого писателя, который реализует свои творческие замыслы, приравнивая тагильский счет к гамбургскому. И, возможно, этот город всё-таки будет славен не только сталью, танками и вагонами. Андрей Расторгуев 15,03.2015 |
