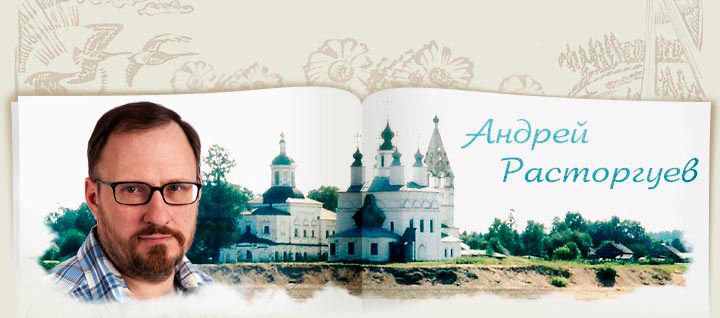
Всегда вовремя  СЕГДА ВОВРЕМЯ СЕГДА ВОВРЕМЯДважды художник Галина Щербова приравняла перо к поэтической кисти Принадлежность к столице для многих в нашей сверхцентрализованной стране настолько стала синонимом превосходства, что название серии – «Московские поэты», ненавязчиво вынесенное на скромную, но изящную обложку тонкого стихотворного сборника Галины Щербовой «Вовремя», показалось неожиданным вызовом. Вроде как бесспорный эталон понизили до общего ряда региональных, сиречь провинциальных изводов русской литературы. Но если уж есть уральская, сибирская, северная, то и собственно московская должна быть. Ведь и в Москве, как в любом другом из отечественных краёв, живут коренные поэты, которые переняли и сохраняют особый отпечаток, отмеченный ещё два века назад Грибоедовым. Притом отнюдь не претендуя на исключительность и элитарность. Этому городу, который то предстаёт большой коммуналкой, то в начале зимы «перемеряет белые обновки», в сборнике отведён специальный раздел. Вот КамАЗы вывозят снег с Арбата: «И чудится, что у грузовиков/ не кузова, а чайные стаканы,/ что белоснежный сахар облаков/ нам накололи к чаю великаны…» («Снегопад к чаю»). Вот по Большой Никитской под дождём бежит студентка в консерваторию: «Она смертельно влюблена,/ как все в апреле…/ Футляр со скрипкой за плечом/ блестит двустволкой…» («Весенняя охота»). Альтер эго автора под дождём, который «стирает с города ладонью зимнюю пыль», идёт не спеша: «…пусть сотрёт и с меня…» («Тихий дождь…»). Продувной весенний день высылает навстречу «людей с голубыми глазами» («Апрель»). В жарком липовом отваре плавится Сретенский бульвар («Летний сонет»). Остановился невдалеке от Ленинградки старый дом («Песчаные улицы»): …Сошли пассажиры осваивать новые земли. Закуталось прошлое в дождь и туманы до пят. Забытый корабль возле русла песчаного дремлет. И ночью во тьме не деревья, а мачты скрипят… Врываются в эту старомосковскую элегию, разумеется, и жёсткие ноты: «…Но чтобы холод в сердце не проник,/ нет индивидуальных средств защиты…» («Тьма исчезает росчерком пера…»). Коротким горестным вопросом отзывается теракт в аэропорту: «…что мы хотим друг другу сказать/ когда убиваем друг друга?» («Взрыв в Домодедово»). О кратком промежутке между рождением и смертью напоминает и суетное метро, где в руках у юношей чаще всего – нечётное число цветов, а у стариков – чётное («Цветы говорят»). Но пусть тлетворным весенним духом, проникающим в снеговые ноздри, парят свежекрашеные заборы – он обещает листву и проникает «мимо контролёров/ до дна метро большой Москвы…» («Пей до дна»). И там, в глубине, прежняя, более нежного колера краска облупившегося фонаря, возле которого назначено свидание, напоминает о голубизне детского воспоминания («Станция «Октябрьская-кольцевая»). А умные морды чугунных собак на станции «Площадь Революции», как это нынче водится, «натёрты до блеска…/ горячей рукой мегаполиса» («Тотемы Манизера»). Слезам этот город не верит, а в сказки, стало быть, пожалуйста… Впрочем, похожее внимание к Москве можно встретить и у приезжих. В конце концов, на собственно московское происхождение автора намекает, и то в сочетании с другими стихами, разве что зарисовка из прошлого: «…с балконов мы смотрели друг на друга/ в предчувствии последнего звонка.…/ Но, к поцелую двигаясь на ощупь/ в потёмках парка, в липовой пыли,/ мы не смогли забыть про эту площадь./ И никогда её не перешли…» («Школьное»). А потом мимоходом как воспоминание возникает и город детства. Так что особенность, отличающая стихи Щербовой, обнаруживается, на мой взгляд, всё-таки в другом. И ключевой фразой представляется такая: «…Я помню всё, – но не когда и кто, –/ а цвет стены, фактуру небосвода…» («Шёл снег с дождём»). Дело даже не в том, что стихотворение, в которое влита эта фраза, повествует о выезде на экскурсию, обернувшуюся пленэром: «…Началом ноября/ кропило небо рыхлую бумагу./ Уйдя от всех к заросшему оврагу,/ я рисовала вид монастыря…» Художника, который решил дополнить палитру и кисти словом, в авторе не только выдают, но и подтверждают и многие другие стихи. Впечатление живописной выставки создавал уже сборник 2013 года «Сто стихотворений» – четвёртый в библиографии автора, но первый, дошедший до моих рук. Посему и рождённая «Вовремя» ассоциация не оказалась неожиданностью. Основу ещё одного раздела этой новой выставки несколько вопреки его названию – «Такой портрет» – составляют этюды. Гром среди ясного неба напоминает звучание передвигаемой мебели. Гроза уходит, отмахиваясь молниями и забывая «стук звонких капель о дно подставленного таза». В том самом городе детства, когда-то солнечном, всё переставлено и разломано, парки заросли крапивой и льёт холодный дождь, но если уезжаешь из него счастливым – значит, веришь в будущее. «…сырые алые розы в сырых изумрудных листьях…» – это взгляд художника на героиню совпал с её собственным представлением о самой себе («Моё имя Галина»). А дальше уже просто минималистская афористичная графика: «того кто знает себе цену никто не сможет переоценить…», «ничего не исправить в несовершенных творениях памяти…», «оставив важнейшие дела жизни на волю Господа, увидишь что Он никуда не торопится…» А вот – это уже из другого раздела, «Перламутровый сор» – пейзаж зимней метели с целым набором ярких примет: «…Трясёт деревья ветер что есть сил –/ как продавец букеты на продажу…/ Борта пальто срываются с петель./ Все в белом порошке, как наркоманы…/ Снег сбрасывают с крыш, и как вуаль,/ он плавно расстилается по миру…» («Всё снег»). Вот осязаемо чувственная «Весенняя зарисовка»: Берёза легла на ореховый куст, от неги сомлела. Он принял её упоительный хруст, мерцание тела. Их корни сплелись под холодным пластом сырого сугроба. И ветви клялись – и божились крестом – любовью до гроба… Вот зримая и одновременно слышимая импрессионистская картина майской ночи: Неукротима майская пора. С весеннего до утреннего часа сшивает землю с небом звук бекаса – вибрирующих крыльев веера с опорой на весенние ветра… Во мраке елей явственен елей… невидимая стая журавлей звучит воздушным трепетом органа… А рядом – какая после Гоголя майская ночь без утопленницы? – маринистский сонет о русалке: «Скольжу в волнах серебряной торпедой,/ Пронзаю толщу изумрудных глыб…» Диптихом – впрочем, художник наверняка может свести эту антитезу и на одном холсте – предстаёт возвращение в перезимовавший дачный дом: «…Внутри – лишь запустения картина./ Снаружи – мир, готовый расцвести…» Слово у Щербовой, однако, не просто дополняет краски, но и вполне поэтически само работает как инструмент, постепенно, слой за слоем, не рисуя даже, а раскрывая, например, женский портрет: «…девушка в тени святого храма/ с книгой примостилась на скамейке.../ Девушка склонилась над Псалтырью,/ пряча взгляд рассеянно-нездешний…/ Юная монахиня на лавке/ душераздирающе смиренна…» («Коломна»). Хотя Божий дар творчества оказывается Сизифовым камнем, пасхальный пейзаж Борисоглебска – «Жизнеутверждающих цветов/ на заборах сохнут одеяла…» – лишь завершает цепочку следов, оставленных безымянным зодчим в созданном им соборе: «…отпечатки пальцев на стенах,/ выбеленных известью по кладке,/ в слюдяном окне во временах/ сохранился код его сетчатки,/ тембр молитв звучит в колоколах…» («Пасха»). Слово позволяет написать движущуюся картину метаморфоз закатного облака: «…Будто начерчено мелом/ на небосводе крутом./ Выросло, залиловело/ и оказалось китом…/ Но на востоке, как рана,/ света взведённый курок, –/ в чреве у левиафана/ Облако-единорог…» И оно же в едва ли не аксаковскую или некрасовскую элегию об ожидании охоты на птиц – «…Покуда охота не разрешена,/ бескровно течёт бытиё…/ Несут из некосов его сеттера/ репьи на ушах и груди…» – привносит гумилёвские и одновременно сегодняшние жаргонные отголоски: «Покинули юзеры озера чат…» («Озеро Усмынь»). А следом – и вовсе весёлая игра слов и цитат: «…Комар меня поцеловал в плечо/ и отдал жизнь за чудное мгновенье…» («А лето так и длится – без затей…») Кстати, о сеттерах: собаки у Щербовой – вообще едва ли не самые яркие персонажи. Во всяком случае, мне – возможно, как тоже отчасти собачнику – запомнились ранее из «Ста стихотворений» прежде всего они: «…Собака спит у печки как младенец,/ на грудь забросив кисти чёрных лап…» («С Агатой»); «…Собака, продираясь сквозь кусты,/ торопится к костру из темноты,/ и от зелёных глаз мороз по коже…» («Собака разговаривает с эхом»); «…Две легавых…/ жмутся у костра./ Пар от шерсти…» («Мста»). В новом же сборнике они вообще врастают в авторскую живопись, символизируя свет и тьму: «…Входит в храм золотистый ретривер./ Чёрный сеттер ложится снаружи…» («В Кантабрийских горах»). Дальние поездки, впечатления от которых собраны в разделе «Лавка ароматов», вообще, похоже, склоняют к символике. Или вдали от Отечества, тем более на солнечном юге, где краски гораздо более контрастны, зрение и мысль становятся острее, а слог – лаконичнее. «Священные дары неоспоримы –/ земля рождает хлеб и виноград…» («Путь святого Иакова») – это испанское. «…уйдём из домишек, нависших, как белые глыбы,/ над гладью песка, уравнявшего все времена,/ до грота Тиберия, – там пресноводные рыбы/ в зелёных бассейнах лениво блуждают у дна…» («Вдоль побережья») – это уже Италия. «…Тут неизвестны радость и веселье,/ все проклинают тяжкое житьё./ Тут женщины подмешивают зелье/ в объятья, поцелуи и питьё./ По-колдовски безмолвны и суровы./ И угли глаз. И чернота волос…» («Дикая Лукания») – тоже из итальянских картин автора, которые напоминают о традиционных путешествиях и полотнах русских академических живописцев. Впрочем, в заглавном стихотворении раздела, скорее, слышатся отголоски Цветаевой или Вертинского: «…сказала: «Дайте… фимиам!»/ Он дал мне ладан…» Луканская же зарисовка самой Щербовой, судя по эпиграфу, вообще родилась по мотивам известного романа Карла Леви, тоже художника и писателя, «Христос остановился в Эболи». И Везувий над запечатанными лавой, словно сургучом, Помпеями, руины коих уже с утра походят на облепленную мухами запёкшуюся рану, вполне литературен: «…Из синевы лиловая гора/ взирает с равнодушием тирана…» Однако и в такой, приподнятой на котурны Италии едва ли не обязательный для культурного человека монотонный обход достопримечательностей прерывается вполне случайной, хотя тоже не раз, но по-другому описанной в литературе, встречей («Синева в Кортоне»): …минуты две мы целовались весело и жарко под быстрыми стрижами в синеве, смеясь, шепча бессмысленно и скоро. И я в Кортоне словно не была. Не видела могилу Пифагора, ни башни, ни собор, ни купола… Вот и нам теперь в Кортону придётся наведаться самим – а до тех пор нести в себе не эту синеву даже, а её запечатлённый отсвет. Вместе со всеми иными отзвуками и чувствами, которые рождает-передаёт творчество каждого из художников, переживающих доставшееся нам время. И независимо от того, камерно это творчество или монументально, целенаправленно или случайно зашли мы на его выставку, такая встреча – всегда вовремя. Андрей РАСТОРГУЕВ Щербова Галина. Вовремя. Стихотворения. М.: ИПО «У Никитских ворот», 2014. – 84 с. 29,05.2015 |
