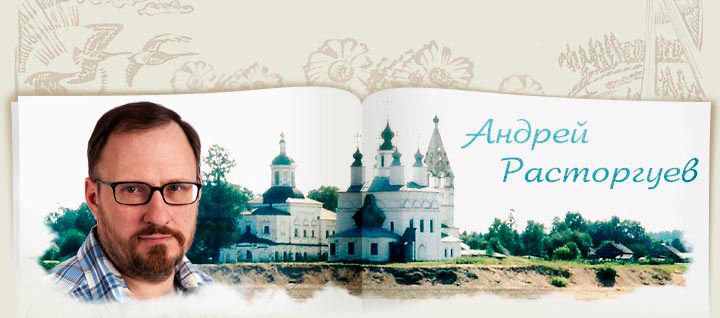
Русское поле 90-х  УССКОЕ ПОЛЕ 90-Х УССКОЕ ПОЛЕ 90-ХВ пограничном Оренбурге родился русский роман о национальном поражении Несмотря на небольшой тираж, роман оренбуржца Петра Краснова «Заполье» добыть легко – он есть в интернете. А прочесть непросто, о чём некоторые уже сообщили в той же всемирной паутине. Думаю, однако, что они просто чересчур привыкли к современной укороченной прозе. А чтобы осилить «Заполье», дыхание требуется иное – долгое. Вроде того, что для «Войны и мира». Белая с красным подбоем Сопоставимы ли таланты – это, как говорится, на вкус и цвет. Здесь говорю только о местами весьма протяжённых фразах, которые подчас достигают толстовских периодов. Впрочем, интересы у Льва и Петра тоже сходятся: обоих интересуют Россия и её народ. Однако время, за которое взялся Толстой, как известно, окончилось национальной победой. А 1990-е годы, о которых пишет Краснов – совсем иначе. Мне, чтобы прочесть и подумать, тоже немало времени понадобилось. Первый раз сделал это ещё в 2015-м, когда роман вышел и получил Южно-Уральскую литературную премию. Позднее перечитал, уже не как член жюри, а на спокойную голову. И написалось тоже не сразу... Впрочем, у автора тоже – над романом он, по его словам, работал полтора десятка лет, да и с его завершением темы отнюдь не исчерпал. Итак, любителям экшена «Заполье» глянется вряд ли. Фабула тоже отнюдь не затейлива. В 90-е годы известному в неназванной российской области журналисту Ивану Базанову предлагают возглавить и «раскрутить» новую газету – интеллигентную, но «в меру, без слюнявости», патриотическую, но без «обкомовской брутальности». Времени с перестройки прошло немного, идеи ещё владеют массами и сталкивают их. Одна из этих идей – «белая с красным подбоем» мысль о воссоздании и развитии державы, в которой разные сословия согласуют взаимные интересы и обязательства – и ложится в основу редакционной политики. Формально независимая газета быстро становится популярной, в том числе среди думающих читателей. И начинает настолько мешать власть предержащим, что губернатору даже предлагают закрыть её «за разжигание социальной розни». Так что весомая и прочная «крыша», как финансовая, так и политическая, требуется как никогда. Да вот незадача – у членов правления концерна, который стоит за газетой, расходятся интересы. Одни, в том числе его председатель Леонид Воротынцев, выступают за развитие производства. Другие – за то, чтобы переключиться на спекуляцию, приносящую гораздо больше денег. И когда в голосовании побеждают первые, вторые убивают Воротынцева. Следствие, впрочем, спускают на тормозах, так что исполнители и заказчики остаются неизвестными. Но факт остаётся фактом: вместе с раскладом голосов меняется и стратегия концерна. А Базанова и ведущих журналистов, которые способствовали победе первых, вынуждают уйти из редакции. В общем, несмотря на детективный элемент, фабулой своей роман едва ли не напрашивается на звание производственно-политического. Если бы не те самые размышления и споры героев, а также его завершение. Карлик без возраста Даже сегодня, когда прежние части большой страны, иные безумно и кроваво, пытаются оторваться от её сердцевины, а люди разбрелись по соцсетям, споры в интернете идут немалые. В конце же 80-х и в 90-е, напомню, всё это плескалось в реале и в традиционных СМИ. Так что наполнение значительной части романа моно- и диалогами, на мой взгляд, вполне адекватно возвращает в атмосферу тех лет, когда люди пытались понять, что происходит, и сложить новую картину мира из обломков прежней. Сделать это пытается и Базанов, главным партнёром и оппонентом которого становится некий Владимир Мизгирь. Знакомятся они ещё в 92-м, «больше беспечном, чем растерянном году», когда приватизация и номенклатурная революция ещё предстояли, но уже на всём, по словам автора, были навешаны ценники, пусть и невидимые на фоне рыночно-романтических туманных посулов. Несколько неприятному ощущению от паучьей фамилии соответствует и внешность: «рахитичное, если не вырожденческое... выглядело странным в давно взрослом, за сорок лет человеке... что-то всё мнилось в нём от карлика без возраста». Потом, однако, первое впечатление почти сошло на нет: «...человек как человек, и уж куда поумней, дерзостней по мысли и проницательней этого подавляющего... и дичающего на глазах большинства человеческого...» Так что Базанову в первые встречи Мизгирь скорее понравился или как минимум заинтересовал его – в том числе циничной, но подкупающей откровенностью, а также весьма аскетичным бытованием. И стремление противостоять ненавидящему и пренебрегающему миру выглядело как самость, а не гордыня. Хотя и виделось: «Чему-то другому предназначил себя хозяин этого тщедушного тела и большой головы, подчинил тому иному все страсти свои, по-видимому, немалые, никак не дюжинный, диалектически подвижный ум...» Где страсти – там и романтика, причём весьма серьёзная, угрюмая, однако едва ли не юношеская. Явно ощущая «упоение в бою, и бездны мрачной на краю», Мизгирь ссылается на молодёжь. И вспоминает при этом Дмитрия Богрова и Гаврилу Принципа, чьи выстрелы сразили не только Петра Столыпина и австро-венгерского эрцгерцога, но и весь прежний мир: «...детишки... беспощадны, как никто... Плевать им на отмирающее, прошлое, им нынешним жить надо... плевать на материнское, родовое, это для них не почва даже – грунт! Вот ведь романтизма основа...» Он и сам при знакомстве говорит о своём происхождении – мол, из галицийских русинов. Но, по его мнению, «род есть, пока ты сам есть... А сдохнешь в бореньях с собой и средой – и рода для тебя не станет...» Встречных убийственных аргументов Базанов не находит, тем более трудно возражать, когда тебя называют первым журналистским пером области и предлагают написать книгу. Он лишь ощущает: «...чисто личностного тут и не может быть ответа... только с родовым вместе, продлённым в роде твоём и дальше тебя...» И, даже почти согласившись с Мизгирём, с пренебрежительной трактовкой родового не примиряется. Победитель получает всё Навязанную обстоятельствами «жестокую необходимость» остаться собой Мизгирь связывает не с прочным фундаментом, а с движением: «...это не статика вовсе, это динамика личности, развитие...» И, нацеливаясь на решительную, как гражданская война, борьбу с собою и средой, видит, что победитель этой войны получает всё. В 93-м во время очередного «типичного переворота», что окончился расстрелом московского Белого дома, он вроде бы оказался на проигравшей стороне: «...нас грубо и умело побили...» Но кто не учился на ошибках? Так что потом и в действиях Мизгирь проявляет «по-животному чуткую..., мгновенную на отзыв интуицию..., умение с тою ж быстротой просчитывать ситуацию и чаще всего безошибочно выбирать нужный вариант...» Постепенно это приводит его к успеху. Новый дорогой чёрный костюм на нём сидит так же плохо, однако: «...комического в этой вдвойне теперь, казалось бы, нелепой фигуре не виделось уже, не усматривалось, настолько подпёрто все было внутренней личной серьёзностью...» Теперь он рассуждает о наркапе – народном капитализме: «...это проверенное, твёрдо во многих хороших домах Европы поставленное дело, это их жизнь сама... Социализм... как раз в механике-то этой и недобрал малость... идеи мешают...» Именно Мизгирь и предлагает Базанову создать новую газету, обещая независимость не только формальную, но и реальную – «без всякого идеологического патронажа». Хотя некоторые оговорки о форме руководства при этом звучат, и желание влиять, причём отнюдь не по мелочам, просматривается. Он же и приводит Базанова к Воротынцеву как человеку «приятственному, с кругозором», который «мыслит без цитат и со свободой, не всем доступной», но советуя ухо держать с ним, в любом случае, востро. Воротынцев и вправду мыслит объёмно, в масштабах страны: «...народная самодеятельность во всех областях, да, инициатива, законность со справедливостью в ладах, сотрудничество межсословное. И, наконец, чувство хозяина в народе – как решимость строить жизнь на общественных началах, на естественном праве всякого суверена...» Желая, по его словам, «дома жить и нигде более», он считает необходимым противостоять происходящему. Поскольку «феодализм мафиозного толка, да ещё без аристократии – это даже не тупик, это хуже... С быдлом рабочим, по терминологии некоторых, никто ничем делиться не собирается, и это уже явным стало, мало того – политически, законодательно обеспеченным... Сословное сотрудничество в колыбели душат...» А что же Базанов? Для него беседы с Мизгирём относились к числу разговоров, «чаще всего довольно беспорядочных..., и ничем не кончающихся, по видимости откровенных, а то исповедальных почти по части мировоззренческих блужданий, блуда тоже, где парадоксы с прописями вперемешку, долгоживущие наши и оттого упрямые предрассудки с провинциального пошиба озареньями...» Так, как это «бывает в сужденьях малость уже помятых несообразностями жизни интеллигентов в первом поколении, в глубинке живущих, где-то у европейско-азиатского водораздела, почти доросших, как кажется, до своего потолка и уже о том начинавших догадываться...» Короче, свойственный тем временам и людям интеллигентский трёп, причём обессиливающий. И тут внезапно один из этих разговоров кончается «весьма дельно» – тем самым предложением делать газету. Этика переходного периода Таких предложений у Базанова поначалу было немало, но речь шла большей частью про «газетки демократически мутного розлива, мелкими скандалами и перевранной светской хроникой живущие, кормушки... растратчиков демократии». Он же проявил себя как «ломака идейная». Но к коммунистам тоже не пошёл: «...марксизмом не вышел, а более того интернационализмом обрыдлым... тотально равноправным, но всё за твой же опять, угадывалось, русский счёт...» А теперь вроде бы ожидать было уже нечего – и вдруг алтын да карт-бланш «идею эту белую с красной на личике сыпью аллергической проводить-выстраивать». Принял, правда, настороженно, даже ощутив «тёплый интерес Воротынцева»: «...неужели свобода, неужто хозяином быть себе?» К тому же Мизгирь «усмехался вроде уголком чувственно-тяжёлых губ» и слушал того «будто в первый раз, упорно глядя, будто запоминая». И вставил реплику, что в такое время нужны в первую очередь не профессионалы, а верные «с животной в этой неразберихе реакцией моментальной... с этикой переходного периода, если угодно... энергетикой брать, напором...» Так что, хотя Воротынцев «чем-то всё-таки ближе оказался ему» – может, теми же размышлениями о стране и народе, после первой встречи Базанов решает ему верить «с известными себе оговорками». А в то, «какой такой идейной масти кошка меж ними пробежала» с Мизгирём, не влезать: «Пусть разбираются сами; а он... будет делать единственное, что он умеет, – свою газету...» Да и потом ещё долго не понимал, «что искал в них или через них этот... пахан одной из спекулятивных группировок первоначального накопления...» Однако, не веря таким вполне, герой Краснова и сам ищет способы противостоять многослойному злу «средь всего этого оголтелого рвачества, звериной делёжки власти и собственности, бесхозными объявленных на время «большого хапка». И принимает предложение о союзничестве. Дистанцию и нейтралитет, однако, удержать не удаётся – слишком явным становится противостояние. Что в обществе, о чём однажды говорит Воротынцев: «...Всё протухло, воняет, и как скоро! Демократия наспех в плутократию конвертировалась, золото власти – во власть золота... старо как мир. Ввели народ в помешательство – и сами обезумели...» Что в самом концерне. В ситуации раскола заманчивые предложения Базанову делают обе стороны. Воротынцев, проникшийся к нему доверием, приглашает «его, незнайку, человека заведомо неделового, да и нищего», войти «в синклит владельцев». Мизгирь через если не подложенную, то подставленную ему любовницу Алевтину – достаток и политическую карьеру: «...издательский центр – ваш, собственный, депутатство, известность, да что хотите...» И он ставит на... проигравшего. Дело здесь не в идейности даже, хотя выбор между поддержкой реального промышленного и сельского производства и быстрым обогащением, который приходится делать концерну, безусловно, связан не только с деньгами. В последнее время журналистская профессия и мораль как-то совсем разошлись в общественном представлении. Но в ту пору и в той ситуации для Базанова выбор оказывается, скорее, нравственным. Когда играют втёмную, когда манипулируют людьми, явно считая их расходным материалом – значит, и цели отнюдь не светлые. А, кроме того, чисто по-человечески ему ближе именно эта сторона. Сначала, впрочем, Воротынцев и его союзники, в том числе и примкнувший к ним Базанов, побеждают. Но вскоре оказывается, что пуля заказного убийцы перевешивает все пакеты акций, которые учитываются при голосовании. Ничего личного Определённый выбор, судя по всему, в этой ситуации делает и Мизгирь – однако без особых внутренних метаний. Для него это – результат обычного расчёта. Погибнуть за идею? Таких всегда немного, их выбивают в зародыше, тем более «гении игры», что применили к России основанное на чёрных технологиях системное оружие. Русский народ? Он «раздавлен, потерян для себя и других, полубеспамятен», неспособен отличить друзей от врагов и всё сдал с потрохами за колбасу и ношеное барахло из гуманитарной помощи. «Молчит богоносец, кряхтит только». А потому «переходная бодяга эта на десятилетье-другое, может, растянется». Победит же, в конце концов, то, «что будет по-настоящему делаться, расти и развиваться». Правда – таково уж человечество, плоды этого развития, очевидно, должны доставаться немногим. «Истинно думающих, предвидящих – единицы. Человек же массовый – это обезьяна прогресса». Он, по словам Мизгиря, «без всякой жалости... опущен в природу: и в свою телесную, животную... – и во внешнюю, злом до краёв таки полную, где походя смерть царит...» Любовью «всё это безобразие» не перемочь, ибо вырождается. И во всяком добре имеется доля малозаметного неискоренимого зла. Но строить можно и на таком человеческом материале – «знаете ли, на всяком строили». Если «ад – он здесь и сейчас, в каждой душонке», то дальше, разумеется, прилетает Всевышнему: «...Бог этот, демиург? Так сей шалман вонючий, творенье бездарное и злобное – не клевета на него даже, а обвиненье тягчайшее всему, проклятья наши...» Ну, и последний шаг – сочувствие дьяволу: «...А Денницу – отчего б и не понять? ...бунт обретает смысл – как апелляция хотя бы...» Впоследствии подтверждается, что никакой особой эволюции у Мизгиря за этим нет. Как узнаёт Базанов, и этническая принадлежность его иная, и от органов, которые «не женские», с давних пор недалёк, и в том же Белом доме в 93-м неясно, чем занимался – не зря уклонился от участия в круглом столе, который на годовщину тех событий был редакцией проведён. И что кличка у него уже в школе была «крошка Цахес» – продвинутая, видно, школа была, если Гофмана в ней читали. Полагаю, однако, что большинство этих подробностей разве что напоминают читателю о различных схемах из конспирологии, которыми и сегодня те или иные люди объясняют события 90-х и всё, что за ними последовало. Фигура же Мизгиря и без этих дополнений выглядит вполне инфернальной – подобной, учитывая словарное значение его фамилии, толкиеновской паучихе Шелоб. А что же, повторим, Базанов? Нежный и сладкоголосый Лель, если вспомнить «Снегурочку», где одного из персонажей тоже зовут Мизгирём? У Островского, впрочем, такого зловещего смысла это имя не имеет... Цена искушения Одному из искушений – уже упомянутой Алевтине – красновский герой поддался: «...В паутину попал, надо признать – уловисто устроенную, сотканную...» Но в том числе потому, что его семейная жизнь к тому времени уже подошла к разводу: «...уже не раз и всерьёз каялся, что взял эту фифу городскую, по убогим образованческим калькам выделанную». И, хотя эта связь на стороне вроде бы оказывается для жены последней каплей, похоже, она нашла бы и другой повод отказать ему в свиданиях с недавно рождённой дочерью. Вроде бы и другим соблазнам Мизгиря адекватного противостояния не просматривается – во всяком случае, словесного. Но что можно было сказать тогда, к примеру, в защиту русского человека, который сам «обрушивался... в животное своё или в рефлексию ту же русскую бездонную..., и вправду не ограниченную ни волею, кажется, ни смыслом, разве что... догадкой, что он, человек русский, пуст, выхолощен кем-то или чем-то уже давно...»? Как просветить люмпен-интеллигента – полуокультуренного горожанина, материальная основа существования которого донельзя изъедена «ржою обывания»? Если пошарить по тогдашним литературным журналам, то, может быть, в них чего духоподъёмное и обнаружится. Но у Базанова, как и многих других подобных ему рефлексировавших отечественных интеллигентов, не нашлось. Ни для себя, ни для окружающих, поскольку его газета, судя по всему, тоже усердствовала в критике происходящего. Эпизод же, связанный с его собственным заходом в редакцию одного из знаменитых, «с давно и старательно наведённым демократическим лоском» московских журналов, где на его глазах беседуют либеральный завотделом и прозаик-патриот, и вовсе отдаёт сатирой. Тем более на фоне грязного двора, в который открывается дверь «под известной всему свету вывеской..., красой и гордостью интеллигентской...» Москва 90-х у Базанова, как и у многих иных, кто в ней тогда бывал и живал, тоже оптимизма не вызывает. Ни вблизи, ни издалека – что рассказами о кремлёвском окружении Ельцина и Семье, что угрозой скупки столичными мародёрами всего и вся в провинции за счёт избыточных «башлей». А духоподъёмное опять же требуется – теперь уже самому Базанову. Ибо приводит его в Москву болезнь, что внезапно проявилась незадолго до краха, которым по сути и ощущению стал конец его газеты – в том её виде, который формировал он. Ранее – стало быть, не поэтому. И курить он сразу же, как установили диагноз, бросил. И лечили его в областной онкологии отнюдь не хуже, чем в столице. Вообще не о болезни и лечении речь – или не только о них. «Выкарабкивались в ходе обычной терапии совершенно безнадёжные..., – говорит ему московский профессор. – Бывают вообще поразительные случаи – самовыздоровленья... Мы имеем дело с необъяснимым, и не с болезнью..., а с мобилизационными возможностями человека...» Этих возможностей и сил у него, похоже, и не осталось. Или того, ради чего стоило бы их найти. Ни работы, в которую стоило бы вложить душу. Ни ребёнка, с которым его разлучили. Ни старая мать в родном Заполье, ни наконец-то появившаяся по-настоящему любимая и подходящая ему женщина удержать уже не могут. Поле покоя Признавая, что «вся-то история человеков... либо фарс всякого рода и вида, либо жестокость запредельная...», Базанов однажды соглашается: «...без бога, как олицетворения высшей воли, человеческое – лишь гнусная пародия не только там на смысл существования разума, но и на разум сам... Без высшего всё это не имеет ни смысла, ни цели, вся дурная бесконечность недалёкого человеческого произвола, себе довлеющего, себя не разумеющего...» Финал после этого вроде бы вполне предсказуем: фраза про дорогу к храму памятна ещё с тех же перестроечных времён. Вот и сосед Базанова по палате областного онкодиспансера конструктор-оборонщик Никита Леденёв по этой дороге прошёл довольно далеко. И всё-таки, отвечая на его сомнения – мол, «кем же ещё обитель эта земная измышлена и сотворена, как не врагом рода человеческого», посетовал: «Всё глубже, Иван... Нам не донырнуть, духа не хватает. Духа. А душою такое не возьмёшь...» Так что даже в последние часы жизни рядом с любовью в Базанове сохраняется пусть и незлобная, но ненависть – «ко всему, что мучает, измывается, изводит не только его, но и живое всё, страдающее неимоверно в безжалостном, иного, кроме мучительной смерти, исхода не имеющем существовании». И всё же уходит он, ощущая незыблемый покой, который «никак не обнаруживается в беспощадном мире», но, оказывается, «везде растворён, всё пронизывает смыслом своим...» Покой этот дарует ему житное поле. Вначале оно предстаёт перед ним на картине местного художника – «немаленькое, все другие картины как бы в тень своим светом отодвигающее, отстраняющее полотно: поле, начавшее колоситься уже, подымающееся к близкому горизонту под пустоватым, но и будто ожиданием каким полным, даже напряжённым небом...» Алевтине, которая выкупила для него эту картину и держала её дома, с ней было неуютно – как будто прореха на стене. А Базанова оно звало уже тогда: «Поле подымалось, уходило к горизонту, и воздух над ним, подразмытый первым летним маревом, словно позолочен пыльцою цветения был – ступи и иди средь лёгких еще, колени царапающих колосьев, всё дальше уходи и дальше...» Поэтичная картина бесконечного ржаного поля, пробуждающего мысли о земле и жизни на ней, обозначает и перевал романа. Эта земля сохраняет всё – кроме человека, «воплощённого слова жизни..., слово через и сквозь него лишь пересылая будущему». Сам человек на это и жалуется. И лишь те, «кто верил в видимую или истинную простоту мира, могли и умели иногда обрести в нём покой и уважение к своему существованию». Для этого, однако, надо было почувствовать себя частью всего, его «вечной, недодуманной всегда, незавершённой мысли». На краю этого поля, желая только пройти его, ощущая в этом главный смысл – «идти дальше, к ждущему его отцовскому» – и наконец-то одухотворяясь, Базанов оказывается и в последние свои минуты. Но ещё ненадолго возвращается и только потом «беспрепятственно уже идёт в хлебном, житном к осуществлению чаемому, зовом его живёт, время тут теперь не властно, и все сроки близки». Тоже в Заполье, но уже нездешнее. К чему ближе такая натурфилософия – православию, язычеству или ещё чему, надо спрашивать священника или богослова. Так или иначе, а для героя, что начал жить в атеистические времена и уходит в смутные, агронома, который было оторвался от земли и теперь возвращается в неё, такой финал представляется более обоснованным. Что же до мобилизационных возможностей и сил душевных... Ржаное августовское поле, конечно, делает завершение романа отнюдь не мрачным. Точно так же сохраняют надежду, скажем, (не сочтите за излишний пафос) «Сказание о погибели Русской земли» и легенда о Евпатии Коловрате. И всё-таки найди главный герой в себе эти силы, ощущения от финала были бы куда более оптимистичными. Однако такое завершение, похоже, разошлось бы с правдой времени, о котором рассказывает «Заполье». Да и с задачей, которую, судя по всему, поставил перед собой Пётр Краснов, взяв эпиграфом слова известного критика Вадима Кожинова из его письма поэту Виктору Лапшину: «Не рассчитывать на победу – высшая победа. Пораздумай...» Иной поэт, правда, предлагал не отличать пораженья от победы. Но Краснов с этим предложением явно не согласен – во всяком случае, для своего народа и страны. И, чётко отделяя одно от другого, предпочёл написать именно о поражении, ища его причины. В том числе для того, чтобы уже другой автор мог создать роман о новом неизбежном торжестве России и русских людей – в том числе над самими собой. Андрей Расторгуев Краснов П.Н. Заполье: роман / Пётр Краснов. – Оренбург: Печатный дом «Димур», 2015. – 564 с. 20,05.2018 |
