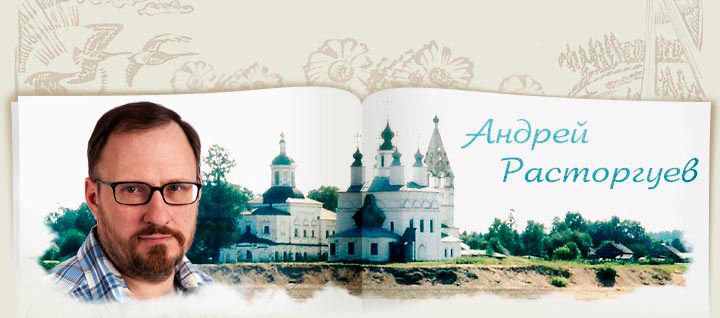
Дом из неба и воды |
 ИСЬМО С МАТЕРИКА ИСЬМО С МАТЕРИКАНа края именные планету кроя, на Урале земные сомкнулись края, и доныне под толщей скалы и травы – водяные и медные жильные швы. И едва обработанный обсидиан, обретаемый ныне в степном ковыле, чертит вовсе не Гринвичский меридиан для отсчета времен на курганной земле. Протекали по ней, погоняя коней, вереницы племен, караваны родов, пропитали ее до корней и камней они эхом имен и золой городов. Я родился у той порубежной реки, где они наполняли водой бурдюки. Оттого ли мне слышится издалека в шуме южного ветра напев степняка?.. Но довольно, любимая – наверняка ты уже утомилась слегка: далеки от тебя облака и века в средостении материка. У тебя в родословной – тунгусский шаман и зырянский мужик-лесовик, и древесный в тебе говорит океан, и небесный лежит громовик. Одинаково зимние вьюги шумят, да от разного хочется спеть: степняковую душу чащобы щемят, лесниковую – ровная степь. Мне по древнему норову путь кочевой, а тебе поперек и с одной ночевой. Хоть в разлуке, соломенною вдовой – абы лишь на земле родовой… Но мы прожили вместе до этого дня, и тела, и дыхания соединя. Я теперь без тебя – что монгол без коня. Кем окажешься ты без меня? Это словно ударить тебя по лицу или снова планету рассечь по рубцу. Разлетаются по полу брызги стекла – чья опаска его сотрясла? У соприкосновенья земных половин, на границе лесных и степных украин тоже светится осенью пламя рябин, точно фанагорийский рубин. Что же ты, проклиная грядущий отъезд, так боишься лишиться родительских мест, будто я наяву на скалу и траву за собой на край света зову? © А.П.Расторгуев 06.01.2005 |
