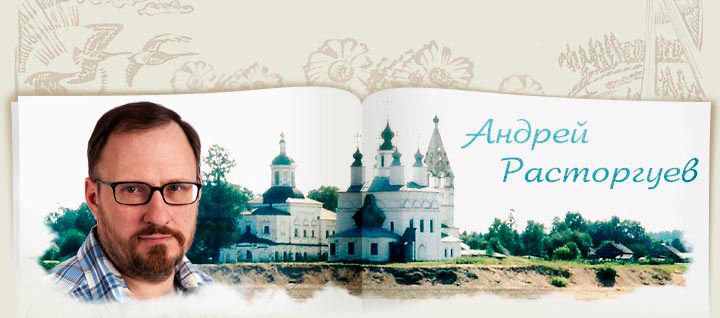
|
 ТАРИК И МОРЕ ТАРИК И МОРЕКарельскому поэту Александру Волкову I Чай-иван зацвёл на косогоре – самый плодовитый из Иванов… Сямозеро – маленькое море между двух великих океанов. Норов у него не голубиный – выходи с опаской на моторе. У него есть мели и глубины, и старик, необходимый морю. От высокой горницы к подвалу шоркая подошвами пороги, он один хозяйствует помалу в доме у прибоя и дороги. Но, пускай не вовсе умалила тело жизнь цепочкой годовою, заросла смородина-малина сорною травою-крапивóю. Нá берег с воды не торопился, сетки ставил бережно и ловко, а теперь у дедовского пирса ливнями захлёстнутая лодка. И, в неторопливом разговоре скрадывая долгую тревогу, слышит он, как Сямозеро-море плещется на старую дорогу, валуны волнами осыпает, подо льдом – и то не засыпает… II В довоенные года иногда очередями вот такие невода мы таскали лошадями, вот такие мужики подымались спозаранку, вот такие судаки шли на свежую приманку. А в сегодняшнюю муть мужиками стали бабы… Дали б морю отдохнуть – рыба выросла хотя бы. III Многое и многих без следа унесла холодная вода, да иное шло и по наследству… Вышедшую замуж по соседству тётку он не видел никогда – поперёк семейной половицы пролегли финляндские границы, кровяной капели череда. Первая была ещё близка. Долго шли по берегу войска, снеговые шапки осыпались. По часам солдаты отсыпались, плавал сизый дым у потолка. В горнице, дополнив обстановку, командир свернул километровку, допил напоследок чёрный чай. Задержался, будто над пучиной, и с горчиной, смутно различимой: - Всё, хозяйка – начали. Прощай… И в потёмках сонных, раным-рано по штабами писаному плану завели орудия обстрел… Выжил ли? Возможны варианты: если не лежит у Питкяранты, в сорок первом вряд ли уцелел. В том снегу не только танки-пушки, но и куропатки да кукушки люду наклевали – не дай Бог… Изредка случалось по-иному: старший брат живой вернулся к дому – две войны до края превозмог. И когда почти через полвека снова к ветке прикоснулась ветка, помня о кореньях родовых, сколько б водки ни приговорили – обо всём рядили-говорили, кроме зимовых сороковых. И его двоюродные братья не салфетки вышивали гладью… Но, сказали, были в тыловых. Может, в самом деле не стреляли – били сваи, пищу доставляли… Всякое бывает на войне. Если до нутра не перемерить – остаётся нá слово поверить в то, что нету крови на родне… IV Был старик лесовик, был старик рыболов, а теперь ни уму и ни сердцу… За несметными следом он тоже готов отворить у истории дверцу, как ещё отворяет чуть свет или снег побелённую печь домовую… Там спекается век, рассыпается век, вылетает в трубу дымовую. - Лебединого времени не проворонь…, – наставляют земные глубины. Ненасытно голодный до жизни огонь добирается до сердцевины, где на памяти детской горчит не угар на Урале на лесоповале, а противоцинготный сосновый отвар – хоть залейся, его выдавали… V Где стоят Елань да Талица, птица-горлица печалится не о злате или олове – о далёком сизом голубе. Первая любовь примерная, потому, видать, неверная, мятная да перемётная, точно стая перелётная. Голубок не отрекается – издалёка откликается: хоть везде растёт смородина, за горами твоя родина. А моя голуба-лапушка – там, где ходит рыба ряпушка, где сосна стоит-качается, а дорога не кончается. Утекло воды и времени – ничего не переменим мы… VI По дороге на войну танк поцеловал сосну – то ли места было мало, то ли принял за жену. И сосна не устояла – повалилась нá спину… Война была немного погодя – хоть невеликий срок, да оставался. До рубежа атаки не дойдя, танкист не убивал, а убивался и со слезой винился на виду у вышедшей к обочине деревни… Ему в броне гореть, а не в аду – чего жалеть попутные деревья? Пускай двухвековая, от Петра и пращуров стояла на погосте – чинить забор наука нехитра: возьмите жерди, проволоку, гвозди… Ушла колонна. Тихие дворы и щепки снегопадом заровняло. С той редко поминаемой поры три кладбища деревня поменяла. Селяне всех родов и возрастов – под гравием, корнями, валунами… А на старинном самом – ни крестов, ни простеньких фанерок с именами, да накануне топки и костра над мимо проезжающей машиной былой сосны смолистая сестра поводит засыхающей вершиной – с тоски ли старой, жёлтые пески под кроною широкой тяжелы ли… Но собрались однажды старики и церковку поставить порешили. И подняли. Отныне место есть, где дух неприуроченный освоен. Сегодня это дело не Бог весть – немало понастроено часовен, но только здесь на памятных листах, впечатанных в увесистые плиты – их родичи, что пали на фронтах и до войны безвинные убиты. Когда минуют нынешние дни и потемнеют свежие иконы, кто станет здесь, едва уйдут они, часы читать и отбивать поклоны? Но и в далёкой снежной полосе людей и лет, к молению несклонных, не все заледенели и не все сгорели в бронетанковых колоннах. VII По укладу веков или расположению звёзд, или недоумению вросшего в давнее стремя завершённое время впивается в собственный хвост… Но доказано кем, что уже завершается время? И покуда киты-черепахи несут материк, по дороге к высокой воде соглашайся, не споря: на морском берегу обязательно будет старик – если он, разумеется, у настоящего моря. А когда соберёшься нелицеприятный итог подвести подо всем, чем сгодился родне и Отчизне – отыщи не биток, а едва приоткрытый виток всё ещё неожиданной и неистраченной жизни. Есть во имя чего – и воистину стоит начать с белоснежной бумаги ли, с чистого ль белого снега… И рыбацкую лодку по-прежнему будут качать океанские зыби на Ладоге и на Онего. © А.П.Расторгуев 13.09.2013 |
